А. В. КОЛЧАК
<»…Командующему флотом приходится иногда заниматься удивительными делами»>
<Из писем А. В. Колчака А. В. Тимирёвой>
[Не ранее 19 февраля 1917 г.]
Ваше письмо с упоминанием о Гельсингфорсе, маскараде в Собрании, о наших общих знакомых вызвало у меня чувство зависти к тем, кто видел и был около Вас, напр[имер] к Лоло Щетинину1. Хоть бы он приехал в Севастополь и рассказал что-нибудь про Вас. Мария Ильинична2 говорила, что он собирался в Ялту и проездом хотел быть у меня в Севастополе.
Я очень тронут, что в разговоре с Вами Адриан Иванович так был любезен в отношении меня и слезно уверяет, что он не мог бы сделать лучшее для меня, как вызвать своими словами те строки Вашего письма, где Вы говорите о совместном с ним переходе на ледоколе.
Вы говорите о Весёлкине3 в смысле его замены кем-то другим — я ничего не знаю и полагаю, что без ведома моего вряд ли такой акт может быть совершен, и я был бы крайне недоволен, если бы что-либо в этом смысле было предпринято. Экипаж у меня действительно отобрали по соображениям, совсем ничего общего с войной не имеющим, и я именно этим крайне недоволен, но приходится мириться.
Вы пишете про Мурашева4 — я всегда высоко ставил его как офицера и любил, как своего близкого помощника и товарища, и даже думал видеть его в Черном море. Но это невозможно, ибо Мурашев — офицер, заменить которого очень трудно, и снимать его с Минной дивизии значило бы приносить ей прямой ущерб — я и так правдами и неправдами лишил дивизию таких офицеров, как Фомин, Тавастшерна5, Павелецкий6, Холмский7, и понятно, что получить в Черное море Мурашева можно, только перешагнув через труп командующего Балтийским флотом.
Вы спрашиваете про симфонический концерт. Он был весьма неважен, скажу откровенно, но это не мешает мне на днях устроить второй, где пойдут «Шехерезада» Чайковского, некоторые вещи Грига и «Двенадцатый год».
Вы охотно согласитесь, что одного приказания играть симфонии Бетховена иногда бывает недостаточно, чтобы их играли хорошо, но, к сожалению, у меня слишком мало других средств. Что касается выставки картин — то я совершенно чужд этой области, и вся моя деятельность по художественной части в Черном море ограничилась указаниями моими художнику, писавшему батальную картину на тему боя «Гебена» со 2-й бригадой линейных кораблей, о виде всплесков и разрывов об воду наших снарядов.
На первой неделе великого поста я предался благочестию и со своим штабом и дамами, пребывающими в моем доме, говел и исповедовал свои грехи, избегая по возможности совершать новые, читал Тертуллиана и Фому Кемпийского, и только двукратное гадание несколько нарушило эту гармонию. Но это, я думаю, ничего, хотя с точки зрения канонической это не вполне удобно. Теперь я занялся новым делом: принимаю участие в бракосочетании дочери адмирала Фабрицкого вопреки церковным правилам, запрещающим это таинство в великом посту. По этому случаю я с Весёлкиным имел постоянный диспут с архиепископом Таврическим, епископом Севастопольским и ректором семинарии на тему о таинстве брака. После двух часов обсуждения этого вопроса я, опираясь на широкую эрудицию Весёлкина в церковных вопросах, блестяще доказал, что брак, как таинство, с догматической и с канонической стороны может и должен быть совершен в любое время и что до проистекающих из него явлений церкви нет дела. Епископы, по-видимому, впали в панику, но разбить нас не могли и, когда я дошел до Оригена, — дали разрешение. Присутствуя на торжестве православия, я немного опасался, не буду ли предан анафеме, но все обошлось благополучно. К участию в совершении этого таинства я привлек еще адмирала Трубецкого8 и для вящего утверждения принял обязанности посаженного отца — полагаю, что теперь всякое сопротивление будет бесполезно. Как изволите усмотреть, командующему флотом приходится заниматься иногда удивительными делами.
22 февраля.
Вчера получил Ваше письмо от 14 февраля. Невероятно долго идут письма, и неизвестно, где они так задерживаются. Вы говорите, что собираетесь уехать в деревню дней на 6, возможно, что теперь Вы уже снова в Петрограде. На днях оттуда вернулся мой флаг-капитан, его рассказы про Петроград только подтверждают то, что Вы пишете; в общем, место мало привлекательное во всех отношениях, и, может быть, расстройство жизни страны нигде так не сказывается, как на этом городе. Надолго ли Вы останетесь в Петрограде или же вернетесь в конце февраля в Ревель? Я [На этом текст обрывается.]
Ватум 28 февраля.
Эск[адренный] мин[оносец]
«Пронзительный»
Третьего дня утром я ушел из Севастополя в Трапезунд и, по довольно скверному обыкновению, попал в очень свежую погоду, доходившую до степени NW-ro [северо-западного (NW — норд-вест, северо-запад)] шторма. Дикая качка на огромной попутной волне с размахами до 40о позволила мне заняться только одним делом — спать, что было тем более кстати, что перед уходом я занялся «гаданием», неожиданно окончившимся утренним кофе. Ночью было крайне неуютно — непроглядная тьма, безобразные холмы воды со светящимися гребнями, полуподводное плавание, но к утру стихло. Мрачная серая погода, низкие облака, закрывшие вершины гор, и ровные длинные валы зыби, оставшиеся от шторма, — вот обстановка похода к Трапезунду. Стали на якорь на открытом рейде в виду огромного прибоя, опоясавшего белой лентой скалистые берега. Ветром нас поставило поперек зыби, и начались безобразные размахи, еще худшие, чем на волне. Одно время я думал сняться с якоря и уйти, но потом спустили вельбот, и я со своими помощниками отправился на берег. Во временной гавани, немного укрытой от прибоя, высадились.
Впечатление стихийной грязи и хаоса — если это можно назвать впечатлением — действует даже на меня, видавшего эти явления в весьма значительной степени проявлений. Сотни невероятного вида животных, называемых лошадьми, орда пленных каннибалов, никоего образа и подобия Божия не имеющих, работающих в непролазной грязи и потрясающей атмосфере, орущая и воняющая под аккомпанемент прибоя, — вот обстановка снабжения приморских корпусов Кавказской армии. Осмотр порта, завтрак и совещание у коменданта генерала Шварца9, мне знакомого еще по [Порт]-Артуру, получасовая поездка за город, поразительные сооружения и развалины укреплений и дворцов Комнинов, нелепо раскачиваемый миноносец, и ход вперед вдоль побережья Лазистана с осмотром Сурмине, Ризе и Атина — открытых рейдов с огромным прибоем, разбивающимся о скалы, и величественными бурунами, ходящими по отмелям и рифам. Зыбь не улеглась до вечера, пока мы не вошли в кромешной тьме, пасмурности и дожде при пронизывающем холоде в Батумскую гавань. Здесь можно было спать, не думая о том, чтобы неожиданно и против всякого желания из койки отправиться под стол или другое место, совершенно не приспособленное для ночного отдыха.
Сегодня с утра отвратительная погода, напоминающая петроградский сентябрь, — дождь, туман, холод и мерзость. Отправились встречать велик[ого] Николая Николаевича, прибывшего в Батум для свидания со мной и обсуждения тысячи и одного вопроса. После завтрака в поезде — осмотр порта и сооружений, и в виде отдыха — часовая поездка за город, в имение генерала Баратова10. Место поразительно красивое, роскошная, почти тропическая растительность и обстановка южной Японии, несмотря на отвратительную осеннюю погоду. Впрочем, и на Киу-Сиу в январе погода бывает не лучше. Меня удивили цветущие магнолии и камелии, покрытые прямо царственными по красоте белыми и ярко-розовыми цветами. Сопровождавший меня ординарец генерала Баратова, раненый и присланный с фронта осетин, заметив мое внимание к цветам, немедленно нарезал мне целую связку ветвей магнолий и камелий, покрытых полураспустившимися цветами. Вот не стыдно было бы нести их Вам, но Вас нет, и пришлось изобразить довольно трогательную картину: химера, которой подносит добрый головорез белые и нежно-розовые камелии. Как хотел бы я послать Вам эти цветы — это не фиалки и не ландыши, а действительно нежные, божественно прекрасные, способные поспорить с розами. Они достойны, чтобы, смотря на них, думать о Вас. Они теперь стоят передо мной с Вашим походным портретом, и они прелестны. Особенно хороши полураспустившиеся цветы строгой правильной формы, белые и розовые; не знаю, сохранятся ли они до Севастополя, куда я иду полным ходом по срочному вызову. Получены крайне серьезные известия из Петрограда — я не хочу говорить о них.
За обедом у великого князя мы читали подробности о взятии англичанами Багдада и генералом Баратовым Керманшаха, а наряду с этим пришло нечто невероятное из Петрограда. Где Вы теперь, Анна Васильевна, и все ли благополучно у Вас? Я боюсь думать, что с Вами может что-либо случиться. Господь Бог сохранит и оградит Вас от всяких случайностей. После обеда я вернулся на «Пронзительный» и почти до 11 h[our] [часов (англ.)] обсуждал дела, а затем вышел в Севастополь.
Тихая, облачная ночь, среди темных туч проглядывает луна, море совершенно спокойное, и только небольшая зыбь слегка раскачивает миноносец.
Я сегодня устал от всяких обсуждений и решений вопросов огромной важности, требующих обдумывания каждого слова, и мне хочется, смотря на Ваш портрет и цветы, немного забыться и хотя бы помечтать. Мечты командующего флотом на миноносце посередине Черного моря, право, вещь весьма безобидная, но сегодня у меня какое-то тревожное чувство связано с Вами, и оно мешает мне мечтать о времени и возможности Вас видеть, выполнив некоторые дела, которые оправдали бы эту возможность. Пожалуй, лучше попробовать лечь спать, а завтра видно будет. Доброй ночи, Анна Васильевна.
1 марта.
Тихий облачный день, спокойное море, прохладно, как в конце апреля или в начале мая на Балтике. Приятно посидеть на солнце {Далее зачеркнуто: и посмотреть на миноносцы, идущие полным ходом]. Со мной возвращается лейтенант Сципион, пришедший в Батум ранее меня, и он отвезет Вам это письмо. Но события таковы, что никто не знает, что будет в ближайшие дни и как скоро получите Вы это письмо. Может быть, я найду у себя Ваше письмо [На этом текст обрывается.]
Л[инейный] к[орабль] 11 марта 1917 г.
«Имп[ератрица] Екатерина»,
на ходу в море
Г[лубокоуважаемая] А[нна] В[асильевна],
Несколько дней тому назад [Далее зачеркнуто: 7 марта] я получил письмо Ваше из Петрограда, написанное 27 февраля. Я пришел 1-го марта вечером из Батума и получил телеграмму от Родзянко, в которой сообщалось о падении старого правительства, а через день пала сама династия. При возникновении событий, известных Вам в деталях, несомненно, лучше, чем мне, я поставил первой задачей сохранить в целости вооруженную силу, крепость и порт, тем более что я получил основание ожидать появления неприятеля в море после 8 месяцев пребывания его в Босфоре. Для этого надо было прежде всего удержать командование, возможность управлять людьми и дисциплину. Как хорошо я это выполнил — судить не мне, но до сего дня Черноморский флот был управляем мною решительно, как всегда; занятия, подготовка и оперативные работы ничем не были нарушены, и обычный режим не прерывался ни на один час. Мне говорили, что офицеры, команды, рабочие и население города доверяют мне безусловно, и это доверие определило полное сохранение власти моей как командующего, спокойствие и отсутствие каких-либо эксцессов. Не берусь судить, насколько это справедливо, хотя отдельные факты говорят, что флот и рабочие мне верят.
Мне очень помог в ориентировке генерал Алексеев, который держал меня в курсе событий и тем дал возможность правильно оценить их, овладеть начавшимся движением, готовым перейти в бессмысленную дикую вспышку, и подчинить его своей воле. Мне удалось прежде всего объединить около себя всех сильных и решительных людей, а дальше уже было легче.
Правда, были часы и дни, когда я чувствовал себя на готовом открыться вулкане или на заложенном к взрыву пороховом погребе, и я не поручусь, что таковые положения не возникнут в будущем, но самые опасные моменты, по-видимому, прошли. Ужасное состояние — приказывать, не располагая реальной силой обеспечить выполнение приказания, кроме собственного авторитета, но до сих пор мои приказания выполнялись, как всегда. Десять дней я почти не спал, и теперь в открытом море в темную мглистую ночь я чувствую себя смертельно уставшим, по крайней мере физически, но мне хочется говорить с Вами, хотя лучше бы лечь спать. Ваше письмо, в котором Вы описываете начало петроградских событий, я получил в один из очень тяжелых дней, и оно, как всегда, явилось для меня радостью и облегчением, как указание, что Вы помните и думаете обо мне. За эти дни я написал Вам короткое письмо, которое послал в Ревель с к[апитаном] 1-го р[анга] Домбровским11, но Вы, видимо, очутились в Петрограде и письма мои Вы получите только в Ревеле. Но я думал о Вас, как это было всегда, в те часы, когда наступали перерывы между событиями, телеграммами, радио- и телеграфными вызовами, требующими тех или иных поступков или распоряжений.
Могу сказать, что если я тревожился, то только о Вас, да это и понятно, т[ак] к[ак] я не знал ничего о Вас, где Вы находитесь и что там делается, но к обстановке, в которой я находился, я относился действительно «холодно и спокойно», оценивая ее без всякой художественной тенденции. За эти 10 дней я много передумал и перестрадал, и никогда я не чувствовал себя таким одиноким, предоставленным самому себе, как в те часы, когда я сознавал, что за мной нет нужной реальной силы, кроме совершенно условного личного влияния на отдельных людей и массы; а последние, охваченные революционным экстазом, находились в состоянии какой-то истерии с инстинктивным стремлением к разрушению, заложенным в основание духовной сущности каждого человека.
Лишний раз я убедился, как легко овладеть истеричной толпой, как дешевы ее восторги, как жалки лавры ее руководителей, и я не изменил себе и не пошел за ними. Я не создан быть демагогом — хотя легко бы мог им сделаться, — я солдат, привыкший получать и отдавать приказания без тени политики, а это возможно лишь в отношении массы организованной и приведенной в механическое состояние. Десять дней я занимался политикой и чувствую глубокое к ней отвращение, ибо моя политика — повеление власти, которая может повелевать мною. Но ее не было в эти дни, и мне пришлось заниматься политикой и руководить дезорганизованной истеричной толпой, чтобы привести ее в нормальное состояние и подавить инстинкты и стремление к первобытной анархии.
Теперь я в море. Каким-то кошмаром кажутся эти 10 дней, стоивших мне временами невероятных усилий, особенно тяжелых, т[ак] к[ак] приходилось бороться с самим собой, а это хуже всего. Но теперь, хоть на несколько дней, это кончилось, и я в походной каюте с отрядом гидрокрейсеров, крейсеров и миноносцев иду на юг. Где теперь Вы, Анна Васильевна, и что делаете? Уже 2-й час, а в 5 ½ уже светло, и я должен немного спать.
12 марта.
Всю ночь шли в густом тумане и отдыха не было, под утро прояснило, но на подходе к Босфору опять вошел в непроглядную полосу тумана. Не знаю, удастся ли гидрокрейсерам выполнить операцию.
Я опять думаю о том, где Вы теперь, что делаете, все ли у Вас благополучно, что Вы думаете. Я, вероятно, надоедаю Вам этими вопросами.
Простите великодушно, если это Вам неприятно. Последнее время я фактически ничего о Вас не знаю. Последнее письмо Ваше было написано 27-го февраля, а далее произошел естественный перерыв, но в этой естественности найти утешение, конечно, нельзя [Над тремя предыдущими фразами, между строк, вписаны два незаконченных предложения с рядом неразборчивых слов, где отчетливо написан лишь следующий фрагмент: Исторический позор обреченного на уничтожение флота, и все это в 10-часовом переходе от сосредоточившегося к выходу в Черное море неприятеля, кричащего на все море открытыми провокационными радио гнуснейшего содержания]. За это время я, занятый дни и ночи непрерывными событиями и изменениями обстановки, все-таки ни на минуту не забывал Вас, но понятно, что мысли мои не носили розового оттенка (простите это демократское определение). Вы знаете, что мои думы о Вас зависят непосредственно от стратегического положения на вверенном мне театре. Судите, какая стратегия была в эти дни. Правда, я сохранил командование, но все-таки каждую минуту могло произойти то, о чем и вспоминать не хочется.
Противник кричал на все море, посылая открыто радио гнуснейшего содержания, явно составленные каким-то братушкой, и я ждал появления неприятеля, как ожидал равно возможного взрыва у себя. Прескверные ожидания — надо отдать справедливость. Сообразно этому я думал о Вас, рисуя себе картины совершенно отрицательного свойства. Кроме неопределенной боязни и тревоги за Вас лично, мысль, что Вы забудете меня и уйдете от меня совсем, несмотря на отсутствие каких-либо оснований, меня не оставляла, и под конец я от всего этого пришел в состояние какого-то спокойного ожесточения, решив, что, чем будет хуже, тем лучше. Только теперь, в море, я, как говорится, отошел и смотрю на Вашу фотографию, как всегда [Далее зачеркнуто: с глубоким обожанием и глубокой благодарностью]. Сейчас доносят, что в тумане виден какой-то силуэт. Лег на него.
Конечно, не то. Оказался довольно большой парусник. Приказал «Гневному» утопить его. Экипаж уже заблаговременно сел на шлюпку и отошел в сторону.
После 5-6 снарядов барк исчез под водой. Гидрокрейсера не выполнили задание — приказал продолжить завтра, пока не выполнят. Ужасно хочется спать. Надо кончать свое писание [Далее зачеркнуто: До завтра, Анна Васильевна]. Нет никаких мыслей, только спать.
13 марта.
Я спал, как, кажется, никогда, — 9 часов подряд, и меня за ночь два раза только разбудили. День ясный, солнечный, штиль, мгла по горизонту.
Гидрокрейсера продолжают операции у Босфора — я прикрываю их на случай выхода турецкого флота. Конечно, вылетели неприятельские гидро и появились подлодки. Пришлось носиться полными ходами и переменными курсами. Подлодки с точки зрения с линейного корабля — большая гадость — на миноносце дело другое — ничего не имею против, иногда даже люблю (хотя не очень).
Неприятельские аэропланы атаковали несколько раз гидрокрейсера, но близко к ним не подлетали. К вечеру только закончили операцию; результата пока не знаю, но погиб у нас один аппарат с двумя летчиками. Возвращаюсь в Севастополь. Ночь очень темная, без звезд, но тихая, без волны. За два дня работы все устали, и чувствуется какое-то разочарование. Нет, Сушон12 меня решительно не любит, и если он два дня не выходил, когда мы держались в виду Босфора, то уж не знаю, что ему надобно. Я, положим, не очень показывался, желая сделать ему сюрприз — неожиданная радость всегда приятней — не правда ли, но аэропланы испортили все дело, донеся по радио обо мне в сильно преувеличенном виде. Подлодки и аэропланы портят всю поэзию войны; я читал сегодня историю англо-голландских войн — какое очарование была тогда война на море. Неприятельские флоты держались сутками в виду один [у] другого, прежде чем вступали в бои, продолжавшиеся 2-3 суток с перерывами для отдыха и исправления повреждений. Хорошо было тогда. А теперь: стрелять приходится во что-то невидимое, такая же невидимая подлодка при первой оплошности взорвет корабль, сама зачастую не видя и не зная результатов, летает какая-то гадость, в которую почти невозможно попасть. Ничего для души нет. Покойный Адриан Иванович говорил про авиацию: «одно беспокойство, а толку никакого». И это верно: современная морская война сводится к какому-то сплошному беспокойству и предусмотрительности, т[ак] к[ак] противники ловят друг друга на внезапности, неожиданности и т. п. Я лично стараюсь принять все меры предупреждения случайностей и дальше отношусь уже по возможности с равнодушием. Чего не можешь сделать, все равно не сделаешь13. Вы не сердитесь на меня, Анна Васильевна, за эту болтовню? Мне хочется говорить с Вами — так давно не было от Вас писем, — кажется, точно несколько месяцев. Я как-то плохо начал представлять Вас — мне кажется, что Вы стали другой, чем были год тому назад. Но я начинаю говорить вздор и кончу письмо.
14 марта.
Сегодня надо проделать практическую стрельбу. Утром отпустил крейсера, переменил миноносцы у «Екатерины» и отделился. Погода совсем осенняя, довольно свежо, холодно, пасмурно, серое небо, серое море. Я отдохнул эти дни и без всякого удовольствия думаю о Севастополе и политике. За три дня, наверное, были «происшествия», хотя меня не вызывали в Севастополь, что непременно сделал бы Погуляев.
[Около 11–14 марта 1917 г.]
[Написано на обороте письма от 11–14 марта 1917 г.
и состоит из отдельных фрагментов текста.]
За эти дни я думал о Вас соответственно обстановке — это мое свойство, очень неприятное прежде всего для самого себя, — какова была эта обстановка, Вы, вероятно, представляете из вышенаписанного [Далее зачеркнуто: Иногда по ночам, думая о Вас, я сомневался в реальности Вашего существования]. И вот так же, как в страшные октябрьские дни, я почувствовал, что между мной и Вами создается что-то, что я не умею определить словами. Так же, как тогда, Вы точно отодвинулись от меня и наконец создалось представление, что все кончено и Анны Васильевны нет; нет ничего, кроме стремительно распадающейся вооруженной силы.
Неумолимое сознание указывало, что близится катастрофа, что все удерживается от стремительного развала только условным моим авторитетом и влиянием, который может исчезнуть каждую минуту, и тогда мне придется уже иметь дело с историческим позором бессмысленного бунта на флоте в военное время в 10 часах перехода от сосредоточившегося для выхода в море неприятеля. Допустимо ли в таком случае какое-либо отношение Анны Васильевны к командующему флотом? Конечно, нет. Я призывал на помощь логику, говорил себе, что [Далее перечеркнуто: не может же флот никак не реагировать на происшедший грандиозный переворот, что моя власть еще не поколеблена и сохраняет силу, что по моим приказам и сигналам суда выходят в море и никто не осмелится].
Логически я сознавал, что это все вздор, что нет оснований, но такое положение в связи со всем происходившим в конце концов привело меня в состояние какого-то не то спокойствия, не то странной уравновешенности. Это состояние мне знакомо, но объяснить его я не могу. Делаешься какой-то машиной, отлично все соображаешь, распоряжаешься, но личного чувства нет совсем — ничто не волнует, не удивляет, создается какая-то объективность с ясной логикой и какая-то уверенность в себе.
<…> то только для того, чтобы найти уверенность в Вас, поддержку и помощь в тяжелое время. Думаю, что Вы не поставите мне в вину это и с обычной добротой отнесетесь к моей слабости и, зная, как бесконечно дороги Вы для меня, простите меня.
С думами о Вас со всем обожанием, беспокойством и тревогой за Вас, на какие только может быть способен командующий флотом в эти невеселые дни.
26 марта.
Г[лубокоуважаемая] А[нна] В[асильевна],
Вчера я отправил через Генмор письмо Вам, написанное почти с отчаянием в прескверные минуты дикой усталости от политического сумбура и бедлама, которым я управляю и кое-как привожу пока в порядок. Великодушно простите меня, Анна Васильевна, а вечером первый раз после переворота приехал курьер из Генмора, и я получил сразу два ваших письма от 7 и 17 марта. Мне трудно изложить на бумаге, что я пережил, когда вынул из пакета со всякой секретной корреспонденцией Ваши письма. Ведь мне казалось, что я не получал от Вас писем какой-то невероятно длинный период (8 дней). Ведь теперь время проходит, с одной стороны, совершенно незаметно и с невероятной быстротой, а вчерашний день кажется бывшим недели тому назад. Ведь в Вас, в Ваших письмах, в словах Ваших заключается для меня все лучшее, светлое и дорогое; когда я читаю слова Ваши и вижу, что Вы не забыли меня и по-прежнему думаете и относитесь ко мне, я переживаю действительно минуты счастья, связанные с каким-то спокойствием, уверенностью в себе; точно проясняется все кругом, и то, что казалось сплошным безобразием или почти неодолимым препятствием, представляется в очень простой и легко устранимой форме; я чувствую тогда способность влиять на людей и подчинять их, а точнее, обстановку, и все это создает какое-то ощущение уравновешенности, твердости и устойчивости. Я не умею другими словами это объяснить — я называю это чувством командования. Пренеприятно, когда это чувство отсутствует или ослабевает и когда возникает сомнение, переходящее временами в какую-нибудь бессонную ночь, в нелепый бред о полной несостоятельности своей, ошибках, неудачах, когда встают кошмарные образы пережитых несчастий, при неизменном представлении, относящемся до Анны Васильевны как о чем-то утраченном безвозвратно, несуществующем и безнадежном. Иногда достаточно бывает хорошо выспаться, чтобы это прошло, но иногда и это не помогает.
Косинский14 писал Софье Федоровне, что наши переживания за две войны и две революции сделают нас инвалидами ко времени возможного порядка и нормальной жизни. Возможно, что он прав, ибо хотя и создается известная привычка и приспособляемость, но есть пределы упругости и прочного сопротивления не только для нервной системы, но, как общее правило, для всякого материала. Вот почему я так дорожу письмами Вашими, и так отчетливо представляю я, что было бы, если бы [Далее зачеркнуто: Вас для меня не было бы. Я верю, что не случай же создал] я лишился их.
Как странно, и это не первый уже раз, что Вы думаете и говорите совершенно независимо от меня то же, что и я. События, свидетельницей которых Вы были, создали у Вас представление, что я под влиянием их могу забыть Вас, что они могли, как Вы говорите, «совсем стереть Вас из моей памяти». А между тем я глубоко страдал в это время, думая так же о Вас, Анна Васильевна. Да, по существу, это и понятно — на моих глазах многие в такие дни совершенно меняются независимо от себя самих, изменяется вся психология, все моральное содержание человека — я мог бы привести за время войн и текущих событий сколько угодно примеров. Редко, впрочем, эти метаморфозы бывают в лучшую сторону. Но я никогда не думаю о Вас так много и с такой силой воспоминаний, как в трудное и тяжелое время, находя в этом себе облегчение и помощь. И только с одним повелительным желанием являетесь Вы в моих представлениях и воспоминаниях — поступить или сделать так, чтобы быть достойным Вас и всего того, что для меня связано с Вами, и сомнение в этом меня беспокоит и заботит.
27 марта.
[Ниже зачеркнуто: Прошло уже 4 недели, а политика не только не прекращается, но растет явно в ущерб стратегии.]
Я перечитал несколько раз Ваши письма. Как близки и понятны мне Ваши мысли и переживания, как бесконечно дороги Ваши слова, где Вы говорите обо мне. Что сказать мне о той опасности, которой Вы подвергались, — с какою радостью я принял бы все, что могло бы угрожать или быть опасным для Вас, на себя, на свою долю, но что говорить об этом «благом пожелании», которое годится только для ремонта путей сообщения в преисподней.
1 апреля.
Сегодня неделя, как я получил два Ваших письма, и у меня является опасение, все ли письма Ваши доходят до меня. Почта действует крайне неправильно, и к тому же имеются основания думать, что в Петрограде существует цензура совершенно не военного характера, а политическая, установленная негласно теми элементами, которые образуют С[овет] Р[абочих] и С[олдатских] Д[епутатов]. При таком положении моя корреспонденция получает несомненно интерес, а потому я отношусь к почте крайне недоверчиво. Передача писем через Генмор — единственно надежный прием, но сношения наши с ним до сих пор не наладились и носят случайный характер. Я послал Вам таким путем письма 25 и 27 марта — не знаю, получили ли Вы их. Вчера я в силу таких соображений вышел из искусственного равновесия, которое страшно трудно удерживать, и, будучи уже подготовлен, наделал вещей, которых делать не следовало. Давно я так не злился и не был в таком ожесточенном настроении, тем более что непроглядный туман задержал мой выход в море, а ночью получились телеграммы, удержавшие меня здесь на несколько дней. Поэтому я с утра решил говорить с Вами и привести себя в нормальное состояние.
Положение мое здесь очень сложное и трудное. Ведение войны [вместе] с внутренней политикой и согласование этих двух взаимно исключающих друг друга задач является каким-то чудовищным компромиссом. Последнее противно моей природе и психологии, и, ко всему прочему, приходится бороться с самим собой. Это до крайности осложняет все дело. А внутренняя политика растет, как снежный ком, и явно поглощает войну. Это общее печальное явление лежит в глубоко невоенном характере масс, пропитанных отвлеченными, безжизненными идеями социальных учений (но в каком виде и каких!) [Далее зачеркнуто: Отцы социализма, я думаю, давно уже перевернулись в гробах при виде практического применения их учений в нашей [жизни]].
На почве дикости и полуграмотности плоды получились поистине изумительные. Очевидность все-таки сильнее, и лозунги «война до победы» и даже «проливы и Константинополь» (провозглашенные точно у нас, впрочем), но ужас в том, что это неискренно. Все говорят о войне, а думают и желают все бросить, уйти к себе и заняться использованием создавшегося положения в своих целях и выгодах — вот настроение масс. Наряду с лозунгом о проливах — Ваше превосходительство (против правила даже), сократите (?!) срок службы, отпустите домой в отпуск, 8 часов работы (из коих четыре на политические разговоры, выборы и т. п.). Впрочем, это ведь повсеместно, и Вы сами знаете это не хуже меня, да и по письмам мои представления о положении вещей совпадают с Вашими. Лучшие офицеры недавно обратились ко мне с просьбой разрешить основать политический клуб на платформе «демократической республики».
9 апреля.
Что я могу сказать. Я повторяюсь, я неоднократно говорил этими словами, но ничего другого и не выдумаешь. И может быть, никогда я не сознавал бесконечную ценность всего того, что связано с Вами, Анна Васильевна, как теперь, когда другая ценность, определяемая военной службой и делом, близка к полному уничтожению.
[Не ранее 21 апреля.]
[Датируется по времени отъезда Колчака
из Петрограда (21 апреля).]
Вечный мир есть сон, и даже не прекрасный, но зато на войне можно видеть прекрасные сны, оставляющие при пробуждении сожаление, что они более не продолжатся.
Мой последний приезд в Петроград был пробуждением от одного прекрасного сна.
Л[инейный] к[орабль] 4 мая 1917 г.
«Свободная Россия»
На ходу в море
Г[лубокоуважаемая] А[нна] В[асильевна]
В конце прошлой недели я получил письмо Ваше от [Дата в тексте не проставлена. Судя по одному из вариантов письма, речь идет о письме от 24 апреля (см. No 9).] апреля. Я виноват в несколько замедленном ответе, но извинением для меня является [Далее зачеркнуто: мое болезненное состояние, от которого я не мог освободиться [с] выходом в море] моя болезнь. Теперь я в море и после 2-х недель невольного молчания попробую ответить Вам. Мне трудно писать, насколько трудно это бывает, когда нет мыслей, нет темы и приходится придумывать слова, чтобы составить какую-нибудь фразу.
Говорить о войне и политике — я не хочу, да я и высказал недавно свое мнение по этому вопросу в печати. Не знаю, прочтете ли Вы его или нет, но Вы ничего не выиграете и не потеряете в том и другом случае [Далее зачеркнуто полторы страницы следующего текста: Писать о себе было бы, пожалуй, несколько самоуверенно, да и по существу эта тема является для меня просто случайной. Приехал я в Севастополь прекрасно, с полным комфортом и даже без опоздания. Обстановка мало изменилась за мое отсутствие, и «все обстояло благополучно». Дальше обычная работа командующего флотом и во время войны и революции в разлагающемся морально и материально государстве. Из Петрограда я вывез две сомнительные ценности: твердое убеждение в неизбежности государственной катастрофы со слабой верой в какое-то чудо, которое могло бы ее предотвратить, и нравственную пустоту. Я, кажется, никогда так не уставал, как за свое пребывание в Петрограде. Так как я имел в распоряжении 2 ½ суток почти обязательного безделья в вагоне, то использовал это время наиболее целесообразно: придя в состояние, близкое к отчаянию (эту роскошь командующий не часто сам себе позволит), я просидел безвыходно в своем салоне положенное время, сделав слабую попытку в чтении Еллинека пополнить пробел в своих знаниях по части некоторых государственных вопросов. Зато я мог себе позволить роскошь отдаться личным воспоминаниям и оценкам «обстановок» и «положений». Я имел возможность без помех прийти в состояние, близкое к отчаянию]. Писать о себе, о своих личных делах было бы несколько самоуверенно, да и крайне скучно. Но все-таки попробую, с Вашего любезного позволения. Из Петрограда я уехал с твердой уверенностью в неизбежности государственной катастрофы и признанием несостоятельности военно-политической задачи, определившей весь смысл и содержание моей работы. Одного этого достаточно [Зачеркнуто: чтобы прийти в состояние, близкое к отчаянию], но если прибавить к этому совершенно отрицательное положение тех немногих личных вопросов, выходивших за пределы моей служебной деятельности командующего флотом, то предоставляю судить, в каком состоянии я уехал из Петрограда, имея 2 ½ суток почти обязательного безделья в своем вагоне-салоне.
Объективная оценка моего петроградского пребывания не дает, по существу, чего-либо нового или неожиданного для меня, но все же, как говорят в фельетонах, «действительность превзошла ожидания». Если бы я мог впасть в отчаяние, плакать или жаловаться, то я имел бы для этого все основания — но эти положения просто мне не свойственны. Я действовал и работал под влиянием некоторых положений, которые теперь отпали, и т[ак] к[ак] я находил в них помощь и поддержку, то я прежде всего почувствовал, что я устал, устал физически и морально. Усталость — это болезнь, и я до сих пор не могу от нее отделаться. Конечно, я могу ее преодолеть и не считаться с нею, но избавиться от нее пока не могу. Нехорошо [Зачеркнуто: Совсем нехорошо]. Время и обстановка все поправят, но сейчас изменения этих элементов слишком еще малы для этого.
Не знаю почему, но когда я в первый раз вышел в море на «Свободной России» и сошел в свою походную каюту, то я почувствовал, что все изменилось, и я не мог остаться в ней и до рассвета ходил по мостикам и палубе корабля [Далее перечеркнуто: Я хотел стать в свое нормальное положение, но современный корабль так велик, что быстро оказаться на мостике, находясь в другом конце корабля, нельзя — и волей-неволей надо быть там, где я теперь нахожусь].
Я снова в море, и уже вторые сутки, и, как прежде, сел писать Вам, но то, что я написал, мне кажется ненужным и неверным, но я ничего другого придумать не могу. Да, в общем, это все равно. Я устал, и мне трудно писать, у меня нет ни мыслей, которые я бы хотел сообщить Вам, ни способности сказать Вам что-либо. Спать я не могу, не хочется читать немецкий вздор о том, что территориальное верховенство — не dominium [Обладание (лат.)], a imperium [Господство (лат.)], что так же для меня безразлично, как вопрос о том, делается ли в Севастополе глупость или идиотство; пойду лучше походить по палубе и постараюсь ни о чем не думать. Простите за это письмо, если пожелаете.
[Не ранее 4 мая 1917 г.]
[Датируется по содержанию.]
В конце прошлой недели я получил письмо Ваше от 24 [Число вписано зеленым карандашом] апреля. Я виноват в замедленном ответе, и хотя мог бы привести некоторое оправдание, но не буду этого делать. Я пробовал писать Вам при первом выходе в море, но это не удалось — может быть, это удастся теперь. Я не хочу ничего писать Вам на политические или военные темы — я недавно высказал свои соображения по этим вопросам в печати. Не знаю, читали ли Вы их или нет, — Вы ничего не потеряете в том и другом случае. Писать о себе мне представляется несколько самоуверенным, но, может быть, наша переписка дает мне условное право на это. Сегодня две недели, как я уехал из Петрограда, пребывание в котором дало мне уверенность в неизбежности государственной катастрофы и отрицательное решение военно-политических целей, определивших мою предшествующую деятельность. Мне кажется, что этих положений вполне достаточно, чтобы не говорить о них далее.
Объективная оценка моего петроградского пребывания не дала, по существу, чего-либо нового или неожиданного для меня, и все же, как говорят в фельетонах, «действительность превзошла ожидания» [Далее зачеркнута фраза до слова «удобопереносимым»: Право, слишком много в одно и то же время; некоторое распределение во времени было бы все же удобопереносимым, но это уже похоже на сожаление о пролитом молоке]. Я прекрасно доехал до Севастополя, где «все обстояло благополучно», и приступил к исполнению своих обязанностей. Что еще сказать о себе? Не довольно ли? Мне трудно писать, извините за откровенность. Нет мыслей и каждую фразу приходится выдумывать.
Простите, если пожелаете.
[Не ранее 5 мая 1917 г.]
[Датируется по содержанию:
5 мая была успешно выполнена очередная
заградительная операция у Босфора.]
Третья ночь в море. Тихо, густой мокрый туман. Иду с кормовыми прожекторами. Ничего не видно. День окончен. Гидрокрейсера выполнили операцию, судя по обрывкам радио. Погиб один или два гидроплана. Донесений пока нет. Миноносец был атакован подлодкой, но увернулся от мин. Крейсера у Босфора молчат — ни одного радио — по правилу: значит, идет все хорошо. Если все [идет] как следует — молчат; говорят — только когда неудача. Я только что вернулся в походную каюту с палубы, где ходил часа два, пользуясь слабым светом туманного луча прожектора. Кажется, все сделано и все делается, что надо. Я не сделал ни одного замечания, но мое настроение передается и воспринимается людьми, я это чувствую. Люди распускаются в спокойной и безопасной обстановке, но в серьезных делах они делаются очень дисциплинированными и послушными. Но я менее всего теперь интересуюсь ими.
9 мая 1917 г.
В минуту усталости или слабости моральной, когда сомнение переходит в безнадежность, когда решимость сменяется колебанием, когда уверенность в себе теряется и создается тревожное ощущение несостоятельности, когда все прошлое кажется не имеющим никакого значения, а будущее представляется совершенно бессмысленным и бесцельным, в такие минуты я прежде всегда обращался к мыслям о Вас, находя в них и во всем, что связывалось с Вами, с воспоминаниями о Вас, средство преодолеть это состояние.
Это состояние переживали и переживают все люди, которым судьба поставила в жизни трудные и сложные задачи, принимаемые как цель и смысл жизни, как обязательство жить и работать для них. Как явление известной реакции, как болезнь оно мне понятно и, пожалуй, естественно, и я всегда находил и, вероятно, найду возможность преодолеть его. Но Вы были для меня тем, что облегчало мне это делать, в самые тяжелые минуты я находил в Вас помощь, и мне становилось лучше, когда я вспоминал или думал о Вас.
Я писал Вам, что никому и никогда я не был так обязан, как Вам, за это, и я готов подтвердить свои слова. Судьбе угодно было лишить меня этой радости в самый трудный и тяжелый период, когда одновременно я потерял все, что для меня являлось целью большой работы и, скажу, даже большей частью содержания и смысла жизни. Это хуже, чем проигранное сражение, это хуже даже проигранной кампании, ибо там все-таки остается хоть радость сопротивления и борьбы, а здесь только сознание бессилия перед стихийной глупостью, невежеством и моральным разложением. То, что я пережил в Петрограде, особенно в дни 20 и 21 апреля, когда я уехал, было достаточно, чтобы прийти в отчаяние, но мне несвойственно такое состояние, хотя во время 234-дневного пребывания в своем вагоне-салоне я мог предаться отчаянию без какого-либо влияния на дело службы и командование флотом. Кажется, никогда я не совершал такого отвратительного перехода, как эти 2 ½ суток.
Как странно, что, когда я уезжал 10 месяцев тому назад, чувствуя, что мои никому не известные мысли реализуются и создаются возможности решить или участвовать в решении великих задач, судьбе угодно было послать мне счастье в виде Вас; когда эта возможность пала, это счастье одновременно от меня ушло. Воистину [Фраза и строка не дописаны.]
Я могу совершенно объективно разбирать и говорить о своем состоянии, но субъективно я, конечно, страдаю, быть может, больше, чем я мог бы это изложить в письме. Но я далек от мысли жаловаться Вам и даже вообще обращаться к Вам с чем-либо, и Вы, я думаю, поверите мне. Мне было бы неприятно, если Вы хоть на минуту усомнитесь в этом.
[Около 10 мая.]
[Написано на обороте письма к третьему лицу,
датированного 10 мая 1917 г.]
Вы пишете мне про Ваши мысли о моем нежелании писать Вам о том, что я забыл Вас. Это не совсем так: я не забыл Вас, и желание писать Вам, хотя бы для того, чтобы иметь письма Ваши, у меня, конечно, есть, но я должен был заставить себя не думать о Вас, ни о переписке с Вами. Уверяю Вас, что забыть что-либо по принуждению — вещь очень трудная, но все-таки, как я убедился, возможная.
Возьмите любое из моих писем, вспомните слова мои, и Вы поймете, какое это для меня огромное несчастье и горе. Но оно не одно — рушилось все остальное, что имело для меня наибольшую ценность и содержание. Надо ли прибавлять к этому еще что-либо. Мне тяжело писать. Я могу заставить себя делать что угодно [Далее зачеркнуто: могу смеяться], гораздо больше, чем написать несколько листков бумаги, но есть же представление о целесообразности того или иного поступка.
[Перед текстом этого письма в отчеркнутой части листа написано: Это было, во всяком случае, отвратительнейшее путешествие, исключительное по скверным воспоминаниям и впечатлениям…]
Э[скадренный] м[иноносец] 20 мая 1917 г.
«Дерзкий»
На ходу в море
Г[лубокоуважаемая] А[нна] В[асильевна]
Я получил письмо Ваше от [Дата в тексте не проставлена, это 24 апреля (см. M 8 и 9).] неделю тому назад, но до сего дня не мог ответить Вам. Всю эту неделю я провел на миноносцах в переходах в северной части Черного моря, ходил в Одессу для свидания с Керенским и ген[ералом] Щербачевым, ходил в Севастополь с министром, отвез его обратно в Одессу, пришел в Николаев и теперь возвращаюсь в Севастополь с «Быстрым» и вновь вступившим в строй миноносцем «Керчь», делавшим свой первый переход морем.
Иногда в свободные часы я брал бумагу, ставил число и название миноносца, затем выписывал «Глубокоуважаемая Анна Васильевна» — но далее лист бумаги оставался чистым, и, проведя некоторое время в созерцании этого явления, я убеждался, что написать ничего не могу. Тогда я принимался за какое-либо другое, более продуктивное занятие.
Сегодня месяц, как я уехал из Петрограда, и первое время, когда я вспоминал свое пребывание в этом городе, возвращение в Севастополь и дни по прибытии на свой корабль, я испытывал желание забыть и не думать об этом времени. Но теперь мне это стало безразличным.
Скажу откровенно, что я сделал также все, чтобы хотя немного забыть и не думать о Вас, так, как это я делал ранее. Забыть Вас, конечно, нельзя, по крайней мере в такой короткий срок, но не думать и не вспоминать возможно себя заставить, и я это сделал, как только вернулся на свой корабль. Прошу извинить меня — но я хочу позволить себе говорить то, что думаю, тем более что мне довольно безразлично, что из этого получится. Если хотите, прошу поверить мне, что я совершенно далек от всякой мысли на что-либо жаловаться, сожалеть или надеяться.
Я пишу Вам в ответ на письмо Ваше о том, о чем сейчас думаю безотносительно к прошедшему и будущему. Все то, что было связано с Вами, для меня исчезло — Вы, вероятно, согласитесь, что эта метаморфоза, во всяком случае, не принадлежит к числу приятных неожиданностей. Но она явилась как факт, как ясное логическое заключение, простое, как математическая формула.
Я могу с точностью до минуты представить себе время, когда это случилось, и то, что я пережил тогда, несомненно гораздо хуже, чем Вы думаете и [чем] я мог бы изложить на бумаге.
Я писал в предыдущем письме, что одна военная и политическая «конъюнктура», поскольку она связана с моей жизнью и деятельностью, создавала «концепцию», к которой, казалось бы, нечего прибавить. Но «прибавка» нашлась и была достойна этой «концепции». Разрушилось все, и я оказался, говоря эпическим языком, как некогда Марий перед развалинами Карфагена. История Иловайского указывает, что этот великий демократ, находясь в ссылке, плакал, сидя на этих развалинах. Не знаю, насколько это верно, думаю, что Марий если и плакал над Карфагеном, то только из зависти, что дело разрушения этого города произошло раньше и без его участия, но что он чувствовал себя прескверно, я в этом уверен. Но, в сущности, это неважно, тем более что я даже не плакал за полнейшим бессмыслием этого занятия.
Первое, что я сделал, когда прибыл на корабль и остался один, — это собрал все, что было связано с Вами и напоминало Вас, — Ваши письма, фотографии, — уложил все в стальной ящик [Далее зачеркнуто: где хранил некоторые секретные документы] с особым замком, открыть который я не всегда умею, и приказал его убрать подальше. Это было очень тяжело, и вечером я почувствовал себя еще хуже. В обстановке ничего почти не изменилось, но отсутствие нескольких Ваших фотографий, казалось, только подчеркивало дикую пустоту, которая создалась в моей каюте [Далее перечеркнуто: сомнительное украшение которой составили только несколько винтовок и пистолетов на голых лакированных переборках]. На пустом столе стояли белые и розовые розы, присланные садовником во исполнение моих приказаний, несмотря на существующие свободы, — я выбросил их в иллюминатор, прошел в лазарет и отправил тем же путем белые, синие и красные цветы; в столовой уныло стояли два каких-то печальных лопуха, покорно ожидая общей участи, но я не нашел у них какого-либо сходства с Вами и потому предоставил им умирать естественной смертью. Больше делать в предпринятом направлении было нечего. На другой день я ушел в море на «Свободной России». Я пережил вновь очень тяжелые минуты, когда, выйдя в море, спустился в свою походную каюту. Эта маленькая, жалкая каюта на мостике около передней трубы, казалось бы, ничего общего с Вами не имеет, но я всегда в ней писал Вам письма и так много думал о Вас, что, оказавшись в ней, я против желания вернулся к этому занятию… На другой день при стрельбе руководивший огнем артиллерийский офицер дал залп второй башни под очень острым углом и обратил мою каюту в кучу ломаных досок и битого стекла. Раньше я всегда возмущался, когда неосторожной стрельбой у меня выбивали иллюминатор или ломали дверь, но тогда я даже не сделал замечания извинявшемуся за этот погром офицеру и переселился в кормовое помещение, где раньше никогда не жил на походах.
Каюту поправили, и на втором выходе я там писал Вам письмо — Вы его получили, вероятно. «Помилуй Бог, как глупо», — может быть, скажете Вы.
«Да», — скажу я, это очень глупо, но мне было больно, и это хуже, чем глупо.
Следя за собой и заставляя не оставаться без какого-нибудь занятия в те часы, когда я раньше отдыхал, я пересилил себя, и теперь я [На этом текст обрывается.]
[Не ранее 20 мая 1917 г.]
[Текст написан на обороте письма от 20 мая.]
Попробую, не знаю, удастся ли это сегодня. Но прежде чем что-либо писать, я хотел бы думать и верить, что Вы не сочтете мои слова за жалобу или упрек, обращенный к Вам, тем более далек я от мысли вызвать какое-либо сожаление, сочувствие или надежду. Может быть, лучшим было бы совсем не писать; может быть, это письмо явится слабостью, но все равно надо же ответить на Ваше письмо, а выдумать я ничего не могу.
Знаете ли Вы, что той Анны Васильевны, которой я молился как божеству, нет.
Не представляется, думаю, надобности говорить Вам жалкие слова в развитие и пояснение этого положения.
Надо было постараться не думать о Вас. Хотите, я расскажу, как это я сделал? Это достаточно смешно и, может быть, немного глупо. Я не боюсь, впрочем, последнего, т[ак] к[ак] в своем сомнении считаю себя имеющим право делать глупости даже сознательно. Многие люди делают их бессознательно и потом сожалеют о сделанном, я обыкновенно делаю глупости совершенно сознательно и почти никогда об этом не сожалею.
21 [мая.]
Я получил, вернувшись в Севастополь, письмо Ваше от 13 мая — Вы пишете, что будете ожидать мой ответ. Что ответить Вам — не знаю. Вероятно, Вы правы.
22 мая.
Я отправил Вам письмо по возвращении в Севастополь, а вчера вечером неожиданно получил два письма Ваших от 12 и 13 мая.
Прежде всего считаю долгом благодарить Вас за любезное внимание. Вы пишете, что будете ожидать мой ответ. Ваше письмо только подтверждает мои мысли и является моим приговором. Что я могу ответить Вам. Вы правы, и я не хочу ни возражать, ни оспаривать Ваших положений. Вы были бы правы, если бы послали мне то письмо, которое признали резким и не вполне справедливым, Вы были бы правы, если бы совсем не ответили мне. Но Вы не правы, приписывая мне жесткость и враждебность в отношении Вас; ни ранее, ни теперь я не могу проявить этих свойств к Вам. Но я виноват [Далее зачеркнуто: в излишней и, в сущности, ненужной откровенности.], что дал возможность понять мое состояние, и я не должен был [Далее зачеркнуто: писать.] посылать Вам ни первого, ни второго письма, быть может, еще более недопустимого.
Если найдете желательным — простите [Далее перечеркнуто: Но что я могу написать, когда вот уже месяц, как я совершенно вышел из сколько-нибудь нормального состояния. Не надо забывать, что я еще командую флотом, я очень занят, все время выполнял операции и выходил в море — я почти не могу спать; прибавьте всеобщий бедлам и непрерывную возню с преступными кретинами. Прошу иметь суждение, какими свойствами надо обладать, чтобы при такой обстановке управлять собой и поступать «холодно и покойно». А я все-таки так делаю и только теперь начинаю уставать.]. Временами мною овладевает полнейшее равнодушие и безразличие ко всему — я часами могу сидеть в каком-то странном состоянии, похожем на сон, когда решительно ни о чем не думаешь, нет ни мыслей, ни волнений, ни желаний. Надо невероятное усилие воли, чтобы принудить себя в это время что-нибудь делать, решать, приказывать… [Далее зачеркнуто: Я устал от этой борьбы с самим собой, мне все надоело, ибо труднее всего возиться с самим собой, я не могу писать Вам.]
Если бы Вы знали, как тяжело мне писать, как больно делать то, что несколько недель тому назад было моим единственным отдыхом. Что я могу сказать, когда чувствуешь, что все равно: написать ли так или иначе, послать письмо сегодня, завтра, через неделю или совсем не посылать, когда меня охватывает такое безразличие и равнодушие, что просто не знаешь, зачем пишешь весь этот вздор.
Вы говорите, что будете ждать ответ мой. На какой вопрос? Стоит ли продолжать переписку с Вами или Вам переписываться со мной, если хотите. В сущности, она кончилась тем письмом, которое Вы с каким-то странным предвидением назвали «последним» и которое я получил в день своего приезда в Петроград. Я это понял тогда же. Теперь я не могу ни думать, ни писать так, как раньше, и Вы спрашиваете: «Какой смысл в этих письмах и какая в них радость?» Никакого смысла и никакой радости — отвечу я. Вы говорите, что пишете мне очень холодно и спокойно, но я отвечу Вам, быть может, с величайшей болью, что [На этом текст обрывается.]
Написано на «Дерзком».
[Не ранее 22 мая.]
[Датируется по предшествующему варианту письма.]
Я вчера отправил письма Вам. Сегодня я неожиданно получил от Вас письма с датами 12 и 13 мая. Прошу принять мою благодарность за них. Вы пишете, что ждете ответа. Прежде всего скажу, что Вы совершенно правы.
Вы пишете, что будете ждать ответа.
Постараюсь ответить на все вопросы Ваши, нарушив немного только их последовательность.
1) «Правда ли, что наша переписка потеряла для меня совсем прежнюю ценность?»
Да, ее ценность и значение счастья, радости и лучшего, что я имел, теперь утратились.
2) «Какой смысл в этих письмах и какая в них радость?» В моих письмах нет и не может теперь быть ни смысла, ни радости.
3) «…Лучше прекратить ее (переписку) совсем, чем писать, принуждая себя к этому».
Вернувшись на юг, я считал, что переписка наша окончилась тем письмом, которое Вы в странном предвидении назвали «последним» и которое я получил в день приезда в Петроград.
«Прекратить переписку с Вами», но дело в том, что выговорить или написать [эти] слова мне представляется даже теперь невероятною болью; если того, что я пережил за прошедший месяц, мало, то пускай будет и это. Раз Вы спрашиваете, то мне остается только идти навстречу, и, как ни тяжело и больно, я отвечу: лучше прекратить [Страница не дописана.]
[Не ранее 22 мая.]
[Датируется по сопоставлению
с предыдущими вариантами письма.]
Г[лубокоуважаемая] Ан[на] Васил[ьевна]
Мною получены Ваши письма от 12 и 13 мая. Принеся искреннюю благодарность за любезное внимание Ваше, прошу верить, что только очень серьезные причины могли задержать ответ на эти письма, тем более что Вы упомянули в письме от 13 мая о Вашем ожидании моего ответа. Я совершенно болен и чувствую себя настолько нехорошо, что положительно не могу рисковать причинить Вам неприятность своими письмами, в которых мое состояние так или иначе будет заметно. Я написал несколько вариантов ответа на письмо Ваше от 13 мая, но признаю их непригодными для сообщения Вам и просто скажу, что единственное мое желание — это всецело пойти навстречу Вашему и поступить так, как Вы признаете для себя нужным.
Вы высказываете свое мнение о возможности ошибки и уверенность в искренности и личных ко мне симпатиях. К большому сожалению, я должен причинить неприятность Вам категорическим отказом в почтенной просьбе Вашей.
«Ошибается тот, кто ничего не делает, а такие люди нам не нужны», — говорите Вы. Я не могу согласиться с этим общим положением. В рассматриваемом случае ошибки быть не должно — она недопустима. Я не допускаю подобных «ошибок», и если это ошибка, то она не меняет моего решения.
Что касается «искренности и симпатии», то эти свойства относятся уже к области личного чувства, которое совершенно должно быть исключено. В силу этого я не нахожу возможным коснуться Ваших слов о «жестокости», «жалости» и прочих прекрасных и непрекрасных слов, к сожалению имеющих для меня значение только постольку, поскольку Вас огорчит мое отрицательное к ним отношение.
Решения своего я не изменю, будучи твердо уверен, что оно основано на простой логике и всякая перемена явится непростительной слабостью.
[Не ранее 22 мая.]
[Датируется по сопоставлению
с предыдущими вариантами письма.]
Ваше письмо от 12/13 мая, в коем Вы изволите выразить мнение свое о создавшейся новой фазе наших отношений и высказываете благопожелания о благополучном разрешении возникших эвентуально положений, я прочел с величайшим вниманием и обдумал, насколько возможно, объективно и беспристрастно сущность последних.
Поэтому некоторое опоздание в ответе может быть не поставлено мне в большую вину и даже не осуждаемо строго ввиду крайней серьезности, с которой я признал необходимым отнестись к почтенным словам Вашим, определившим несколько дней, потребных для правильного суждения поставленных Вами вопросов.
Прежде всего, мы стоим на совершенно различных основаниях для суждения. Из Вашего письма видно, что Вы рассматриваете дело только с каузальной стороны его, для меня же основное значение получают нормативные положения, определяющие действия или поступки. Вы говорите о существовании, я говорю о долженствовании. Важно, в сущности, не то, что есть, а то, что должно быть.
Я далек, конечно, от суждений о преимуществе или правильности той или другой точки зрения, скорее склонен признать если не правильной, то более логичной Вашу.
События, имевшие место при свидании нашем в Петрограде, с точки зрения, Вами высказываемой на наши взаимоотношения, имеют чисто эвентуальный характер. Нет сомнения, что элементы порядка и случайности имели известное значение, но причины лежат более глубоко.
Вы изволите согласиться, что основанием всего послужили Ваши славные действия [Далее зачеркнуто: в июле 1916 г.], имевшие для меня значение нормы [Далее зачеркнуто: в дальнейших моих поступках.]. До нашего свидания и во время моего пребывания в Петрограде Вы не отрицали нормативного значения и признавая [На этом текст обрывается.]
Ваше письмо подтверждает глубоко трагическое положение мое, как получившему post factum [После совершившегося факта (лат.).] нашего свидания, то, что, по существу, должно было быть сделано до или во время его. Вы хорошо знаете, что для меня известные слова Ваши имели императивное значение, но я должен сказать, что таковая же императивность может создаться и при умолчании.
Игра в понимание без слов очень рискованна и тем менее допустима для тех, кто провел 10 месяцев в совершенно различной обстановке, вдали друг от друга. Нет необходимости сослаться на то состояние, в котором я находился из-за «неудачного понимания». Наша переписка, являвшаяся за эти 10 месяцев единственной связью, в результате едва не привела меня к величайшему несчастью, и я15 [На этом текст обрывается.]
Л[инейный] к[орабль] 30 мая 1917 г.
«Г[еоргий] П[обедоносец»]
Г[лубокоуважаемая] А[нна] В[асильевна]
Вчера вечером совершенно неожиданно я получил пакет от Романова16 с Вашим письмом от 17–18 мая, написанном в Петрограде.
Это письмо я получил только на 11-й день. Я мог бы получить его по крайней мере неделей раньше и на неделю раньше получить возможность несколько выйти из своего невозможного состояния.
И вот сегодня после Вашего последнего письма я чувствую себя точно после тяжелой болезни — она еще не прошла, мгновенно такие вещи не проходят, но мне не так больно, и ощущение страшной усталости сменяет теперь все то, что я пережил за последние пять недель.
Стоит ли вспоминать их? Листки бумаги, которые я исписал, по привычке обращаясь к Вам, не думая, конечно, посылать их по Вашему адресу, могли бы, конечно, представить и объяснить все то, что произошло с того времени, когда я уехал из Петрограда в состоянии, которое называется отчаянием. Да, я первый раз в жизни испытал, что это такое, и почувствовал, что руки у меня опустились, что у меня нет ни воли, ни желаний или способностей выйти из этого состояния, ни средств что-либо делать, ни целей, к которым надо идти [Далее зачеркнуто: К двум формулам свелось все, что для меня имело значение, содержание и смысл жизни: война проиграна позорнейшим образом, проливы остаются в руках немцев, вся подготовка, вся работа сведена к нулю: «ибо во всей армии нет полка, в котором я мог бы быть уверен, и Вы сами не можете быть уверены в своем флоте, что он при настоящих условиях выполнит Ваши приказания»]. Позорно проигранная война, в частности кампания на Черном море, и в личной жизни — нет Вас, нет Анны Васильевны, нет того, что было для меня светом в самые мрачные дни, что было счастьем и радостью в самые тяжелые минуты безрадостного и лишенного всякого удовлетворения командования в последний год войны с давно уже витающим призраком поражения и развала.
Двое с половиной суток моего пребывания в вагоне-салоне были достаточны, чтобы сойти с ума, но я не мог позволить себе продолжение такого состояния, вступив на палубу корабля. Не знаю, насколько это справедливо, но мне доказывали, что только я один в состоянии удержать флот от полного развала и анархии, и я заставил себя работать.
Но я свыкнулся с воспоминаниями и мыслями о Вас, и то, что раньше являлось для меня одним из источников энергии и способности делать, обратилось в препятствие, с которым мне пришлось бороться.
Как странно читать Ваши слова, где Вы говорите, что я забыл Вас. Я попробовал это сделать, мне так было тяжело иногда, что я хотел бы не думать и не вспоминать Вас, но это было, конечно, невозможно. Разве можно, хотя бы по желанию, забыть Вас после 2 лет, в течение которых я непрерывно думал о Вас, соединяя с Вами, может быть, странные и непонятные [Далее зачеркнуто: для Вас] мысли и желания о войне.
Стоит ли говорить о пустяках, которые являлись «покушениями с негодными средствами», к которым я прибегал, чтобы не думать о Вас. Я много работал в этом месяце — ряд операций — выходов в море, частью кончавшихся трагически, с потерями прекрасных людей, как в минной операции в Босфоре, гибель подлодки «Морж», — частью удачных, как разгром Анатолийского побережья вспомогательными крейсерами и миноносцами, — не действовали на мое состояние, и в море на корабле и миноносце я чувствовал себя еще хуже, чем на «Георгии Победоносце».
На «Свободной России» в первые выходы я временами переживал то же, что и [в] вагоне на пути в Севастополь.
Политическая деятельность, которой я занялся [Далее зачеркнуто: чтобы отвлечь себя], создала два крупных эпизода: вернувшись из Петрограда, я решил заговорить открыто, и мне пришлось первому, ранее чем высказались правительство и высшее командование, громко сказать о разрушении нашей вооруженной силы и грозных перспективах, вытекающих из этого положения. Мне удалось поднять дух во флоте, и результатом явилась Черноморская делегация, которую правительство и общество оценило как акт государственного значения. Против меня повелась кампания — я не колеблясь принял ее и при первом же столкновении поставил на карту все — я выиграл: правительство, высшее командование, Совет Р[абочих] и С[олдатских] Д[епутатов] и почти все политические круги стали немедленно на мою сторону. Казалось бы, что все это должно было наполнить жизнь и отвлечь меня от того, что было так больно и что казалось совершенно потерянным и непоправимым. Нет, ничего не помогало [Далее зачеркнуто: Я делал что-то, как механизм, переживая временами душевную боль.]. Я получил и получаю очень много писем и телеграмм отовсюду, почему-то мне приписывают какие-то вещи, значение которых я не разделяю, политические деятели, представители командования говорят мне о каких-то заслугах и выражают мне благодарность неизвестно за что, но все это мне было не нужно и не давало ничего.
Я получил письмо Ваше, где Вы заговорили о прекращении переписки с Вами и упомянули, что будете ждать моего ответа. Я сознавал, что переписка кончена, я мог признать факт ее окончания логически, но я не мог ответить Вам, что я хочу или согласен с ее прекращением, я не мог примириться с каким-либо участием с моей стороны в этом решении. Я готов был считаться с прекращением последней связи с Вами ipso facto [В силу самого факта (лат.)], но для меня невозможно было участие действием или поступком в этом. Только Вы, и только одни Вы, могли мне помочь, но Вы ушли от меня, и я сознавал, что изменить что-либо в отношении Вас я бессилен.
Что я мог писать Вам, Анна Васильевна, когда я думал о Вас, переживал ощущение почти физической боли, с которой я ничего не мог поделать, и перестал под конец бороться с нею, предоставив все времени и обстановке. Я понял в Петрограде, что Вы мне не верите, не доверяете, что Вы отстраняетесь от меня, что Вы тяготились мною, и я понял это без слов, намеков или объяснений [Далее зачеркнуто: Если вспомнить, на каком фоне и в какой обстановке создалось у меня это представление, то Вы согласитесь, что это отнюдь не имело характера «приятной неожиданности».]. Скажите, Анна Васильевна, имел ли я для этого основания или нет. Ведь я пишу не для того, чтобы Вы что-либо опровергали. Долгий опыт научил меня понимать многое без слов и видеть в словах то, что иногда они совсем не выражают, и опыт указывает мне, что я ошибался редко. Может быть, я ошибся, но даю слово, что еще никогда в жизни я так не платился за ошибку, что я пережил за это время.
Быть может, никогда я так не думал о Вас, как в это время, несмотря на невероятную сложность событий и всякого рода дел, когда я думал с величайшей болью и отчаянием чувств, что лишился Вас, и признавал это положение безнадежным и непоправимым.
Передо мной лежат Ваши последние письма. Я не сомневаюсь в искренности, но я задумываюсь над Вашими словами. Вы пишете, что я забыл Вас, что Ваши письма неинтересны и не нужны мне, что мне не до Вас, что [На этом текст обрывается.]
[Позднее 2 июня 1917 г.]
[Датируется по содержанию.]
Я отправил 2 июня письмо Вам через Генмор, письмо, которое я просил уничтожить по прочтении, сознавая [Фраза не дописана.]
Мне хочется писать и говорить с Вами.
Как хотел бы я писать и говорить с Вами так, как в начале моего назначения в Черное море, когда письма к Вам были моим лучшим отдыхом, когда я ждал, считая дни, Ваших писем и, получая их, переживал светлые и радостные минуты счастья.
Когда наступили черные дни расплаты с судьбой за это горе, я хотел уйти от Вас, но это желание было великой жертвой для меня, которую я готов был принести во имя Вас же, признав себя недостойным отношения и памяти Вашей. Я не колеблясь сделал бы это во всех случаях, когда я почувствовал бы [себя] не только виноватым в чем-либо, но и тогда, когда признал бы, что меня постигло какое-либо несчастье или крупная неудача.
Но Вы пришли ко мне тогда и несколькими словами помогли мне, и я всегда помнил, чем я обязан был Вам тогда.
В этот приезд в Петроград я пережил величайшее моральное поражение: состояние вооруженной силы и война делали очевидным полную невозможность осуществления задач на Черном море, к которым я готовился к весне настоящего года, — надо было спасать флот от разложения, о котором я писал Вам.
5 июня 1917 г.
Скоро будет два месяца, как я последний раз видел Вас и уехал с болью отчаяния в Черное море.
[6 июня 1917 г.]
Глубокоуважаемая Анна Васильевна.
Вчера я по обыкновению сел писать Вам письмо, как это делаю последнее время каждый день в свободные минуты, а вечером мне принесли Ваше письмо от 30 мая. Анна Васильевна, у меня нет слов ответить Вам так, как я бы хотел. Я до такой степени измучился за время после своего возвращения из Петрограда, что совершенно утратил способность говорить и писать Вам. Я не могу передать Вам душевную боль, которую я испытываю, читая последние письма Ваши. Может ли быть оправданием моим, что мое отчаяние, мои страдания за это время были связаны с представлением, что Вы, Анна Васильевна, ушли от меня. Я писал Вам, что это для меня было великим несчастьем и горем, с которым я решительно не мог справиться. В Петрограде, в день отъезда моего, на последнем заседании Совета министров в присутствии Главнокомандующего ген[ерала] Алексеева окончательно рухнули все мои планы, вся подготовка, вся огромная работа, закончить которую я хотел с мыслью о Вас, результаты которой я мечтал положить к ногам Вашим.
«У меня нет части, которую я мог бы Вам дать для выполнения операции, которая является самой трудной в Вашем деле» — вот было последнее решение Главнокомандующего. Только Милюков, совершенно измученный бессонной неделей и невероятной работой, понял, по-видимому, что для меня этот вопрос имел некое значение, большее, чем очередная государственная задача, и он подошел ко мне, когда я стоял, переживая сознание внутренней катастрофы, и молча пожал мне руку.
Накануне я был у Вас, но я не имел возможности сказать Вам хоть несколько слов, что я ожидаю и какое значение имеет для меня следующий день.
Я вернулся от Вас с В. В. Романовым и, придя к себе, не лег спать, а просидел до утра, пересматривая документы для утреннего заседания, слушая бессмысленные «ура» и шум толпы перед Мариинским дворцом и думая о Вас. И в это ужасное утро я, не знаю почему, понял или вообразил, что Вы окончательно отвернулись и ушли из моей жизни. Вот с какими мыслями и чувствами я пришел проститься с Вами. Если бы Вы могли бы уделить мне пять минут, во время которых я просто сказал бы Вам, что я думаю и что переживаю, и Вы ответили бы мне — хоть: «Вы ошибаетесь, то, что Вы думаете, — это неверно, я жалею Вас, но я не ставлю в вину Вам крушение Ваших планов», — я уехал бы с прежним обожанием и верой в Вас, Анна Васильевна. Но случилось так, что это было невозможно. Ведь только от Вас, и ни от кого больше, мне не надо было в эти минуты отчаяния и горя — помощи, которую бы Вы могли мне оказать двумя-тремя словами. Я уехал от Вас, у меня не было слов сказать Вам что-либо.
Вы в первом письме писали мне, что у Вас была мысль приехать повидать меня на вокзале. Я ведь ждал Вас, не знаю почему, мне казалось, что Вы сжалитесь надо мной, ждал до последнего звонка [Далее зачеркнуто: и только когда поезд тронулся, я снова сказал себе, что все кончено…]. Отчего этого не случилось? — я не испытывал бы и не переживал бы такого горя. И вот Вы говорите, что я грубо и жестоко отвернулся от Вас в этот день. Да я сам переживал гораздо худшее, видя, может быть неправильно, что я после гибели своих планов и военных задач Вам более не нужен. Я бесконечно виноват перед Вами, но Вы ведь знали, что я так высоко ставил Вас, Анну Васильевну, которую я называл и называю своим божеством, которой поклонялся в буквальном смысле слова, дороже которой у меня не было и нет ничего, что я не мог допустить мысли, чтобы я оказался бы в своих глазах ее недостойным. Это не метафора и не фраза. Ваши слова, сказанные Вами при отъезде моем на юг, те слова, которые Вы мне повторяете в нежных письмах Ваших, были и есть для меня не только величайшим счастьем, но и тяжким обязательством оправдать их действием или поступками. Только тогда я мог бы сказать их Вам открыто, когда сознавал бы за собой силу действия, а не слова или чувства. Не знаю, можно ли понять меня. Я писал Вам об этом в дни несчастья, обрушившегося на меня в октябре. Я не могу допустить мысли, чтобы Вы, мое божество, могли бы сказать эти слова кому-либо недостойному Вас, как я это понимаю. Я не хочу связывать даже представление о Вас с тем, что я называю недостойным: слабость, незнание, неумение, ошибка, неудача и даже несчастье.
Не стоит разбираться — это все в моих глазах детали — сущность одна — в успехе или неуспехе. Не оправдывать же себя перед Вами «неизбежной случайностью на море» или «независящими обстоятельствами». Вот почему я думал, что я должен был уйти от Вас в дни октябрьского несчастья, почему я решил, что Вы отвернетесь от меня после разрушения моих задач и планов в апреле. В октябре Вы не оставили меня, две-три фразы Ваши сделали для меня то, что никто не делал для меня [в] жизни, но теперь я вообразил, что Вы отвернулись от меня. Я справился немедленно, как вступил на палубу корабля, со своим отчаянием в военном деле. В часы горя и отчаяния я не привык падать духом — я только делаюсь действительно жестоким и бессердечным, но эти слова к Вам не могут быть применимы. Я работал очень много за это время, стараясь найти в работе забвение, и мне удалось многое до сих пор выполнить и в оперативном и политическом смысле. И до сего дня мне удалось в течение 3-х месяцев удержать флот от позорного развала и создать ему имя части, сохранившей известную дисциплину и организацию. Сегодня на флоте создалась анархия, и я вторично обратился к правительству с указанием на необходимость моей смены.
За 11 месяцев моего командования я выполнил главную задачу — я осуществил полное господство на море, ликвидировав деятельность даже неприятельских подлодок. Но больше я не хочу думать о флоте.
Только о Вас, Анна Васильевна, мое божество, мое счастье, моя бесконечно дорогая и любимая, я хочу думать о Вас, как это делал каждую минуту своего командования.
Я не знаю, что будет через час, но я буду, пока существую, думать о моей звезде, о луче света и тепла — о Вас, Анна Васильевна. Как хотел бы я увидеть Вас еще раз, поцеловать ручки Ваши.
КОММЕНТАРИИ
Фрагменты из писем А. В. Колчака А. В. Тимирёвой печатаются по: ГА РФ. Ф. Р-5844. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-32; Там же. Д. 2. Л. 1-50.
1 Щетинин Алексей Алексеевич (1876—?) — морской офицер, минер. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Служил на Балтике, командовал эскадренными миноносцами, в 1915–1917 гг. командир крейсера «Россия». Участник Первой мировой войны. Последний чин в императорском флоте — капитан 1 ранга. В нояб. 1917 г. вышел в отставку. Дальнейшая судьба неизвестна.
2 Плеске Мария Ильинична (18537-1944) — родная тетя А. В. Тимирёвой, председатель Благотворительного общества при Градских богадельнях Санкт-Петербурга (Петрограда). Вдова министра финансов Российской империи Э. Д. Плеске.
3 Весёлкин Михаил Михайлович (1871-1918) — морской офицер, контр-адмирал. Участник Русско-японской войны. После ее окончания служил на судах Гвардейского морского экипажа. Флигель-адъютант императора Николая II. С 1915 г. контр-адмирал, начальник Дунайской экспедиции особого назначения. В апр. 1917 г. уволен в отставку. Расстрелян большевиками в Архангельске.
4 Мурашев Владимир Васильевич (1880-?) — морской офицер, инженер. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Служил на Балтике, был наблюдающим за постройкой ряда боевых кораблей. В 1916 г. переведен на Черное море. Последний чин в императорском флоте — инженер-механик капитан 2 ранга. В нояб. 1917 г. вышел в отставку. Дальнейшая судьба неизвестна.
5 Тавастшерна Александр Александрович (1888-1925) — морской офицер, минер. Участник Первой мировой и Гражданской войн и Белого движения на Юге России. Последний чин в императорском флоте — старший лейтенант. В 1920 г. эмигрировал в Грецию, где и скончался.
6 Павелецкий Антон Карлович (1889-1954) — морской офицер. Участник Первой мировой и Гражданской войн и Белого движения на Юге России. Последний чин в императорском флоте — лейтенант. В 1920 г. эмигрировал во Францию, где и скончался.
7 Не вполне понятно, кого конкретно здесь имеет в виду Колчак. В Черноморском флоте служили два брата Холмских: 1) Николай Николаевич (1892-?) — морской офицер. Участник Первой мировой и Гражданской войн, Белого движения на Юге России. Последний чин в императорском флоте — лейтенант; 2) Михаил Николаевич (1896-?) — морской офицер, летчик морской авиации. Участник Первой мировой войны. Последний чин в императорском флоте — лейтенант. В 1918 г. перешел на службу во флот независимой Украины. Дальнейшая судьба обоих братьев неизвестна.
8 Трубецкой Владимир Владимирович (1868-1931) — князь, морской офицер, контр-адмирал. Участник Русско-японской войны. Служил на Балтике, а с 1912 г. на Черном море. С 1916 г. контр-адмирал, начальник Минной бригады Черного моря. После Февральской революции 1917 г. назначен начальником Дунайской морской дивизии. В 1918 г. эмигрировал и жил во Франции. Умер в Париже.
9 Шварц Алексей Владимирович фон (1874-1953) — русский генерал, инженер-фортификатор. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура, один из самых деятельных организаторов инженерных работ, за что был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. После войны преподавал в Николаевской инженерной академии. Участник Первой мировой войны. В 1914 г. был комендантом Ивангородской крепости, за успешную оборону которой был награжден Георгиевским оружием и произведен в генерал-майоры. С 1915 г. комендант Карсской крепости, с 1916-го начальник Трапезундского укрепленного района. После Февральской революции 1917 г. назначен начальником Главного военно-технического управления и произведен в генерал-лейтенанты. Уехал на Украину. В 1919 г. был военным генерал-губернатором Одессы в период ее оккупации французскими войсками. Эмигрировал сперва во Францию, а затем в Аргентину. Автор мемуаров и многих научных работ по фортификации.
10 Баратов Николай Николаевич (1865-1932) — генерал от кавалерии. Участник Русско-японской войны, за участие в которой награжден Георгиевским оружием. Участник Первой мировой войны. С окт. 1915 г. командующий Отдельным экспедиционным кавалерийским корпусом в Персии. После Февральской революции 1917 г. был назначен Главным начальником Кавказского военного округа, но в авг. 1917 г. возвращен на прежний пост. Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге России. Был специальным представителем генерала Деникина в Закавказье. В 1920 г. эмигрировал. Жил и умер во Франции.
11 Домбровский Алексей Владимирович (1882-1954) — морской офицер. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Командовал различными эскадренными миноносцами. Последний чин в императорском флоте — капитан 2 ранга. В 1918 г. поступил на службу в Красный флот. В 1918 г. начальник 1-й линейной бригады Балтийского флота, в 1919-м начальник штаба Балтийского флота. В 1920–1921 гг. начальник Морских сил Черного и Азовского морей, в 1921–1925 гг. начальник Морского штаба Республики. С 1930 г. в запасе, заведовал кафедрой в ЛЭТИ. В 1938 г. репрессирован, приговорен к 5 годам ссылки. После освобождения жил в Ленинграде, где и умер.
12 Сушон Вильгельм (1864-1946) — адмирал немецкого и турецкого флотов. В период Первой мировой войны командовал судами эскадры, переданной Германией Турции, в частности крейсерами «Гебен» и «Бреслау».
13 Все пишут о Колчаке как о суровом и хмуром человеке, а вот в интимном письме он раскрывается с совершенно неожиданной стороны. Тонкий юмор, приправленный нарочитым ворчанием, не удивительно, что Тимирева писала о нем как об очень веселом человеке.
14 Косинский Алексей Михайлович (1880-1930) — барон, морской офицер. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Командуя эскадренным миноносцем «Статный», вывез из осажденной крепости ее знамена. Командовал эскадренными миноносцами на Балтике. Последний чин в императорском флоте — капитан 2 ранга. В 1916 г. награжден за храбрость Георгиевским оружием. В 1929 г. арестован ОГПУ. Умер в лагере.
15 Последние несколько писем показывают, в каком тяжелом нервном напряжении находился Колчак, когда писал их. Неестественный выспренний тон, усложненные словесные конструкции показывают, сколь тяжело адмиралу дались первые революционные месяцы, что жить в хаосе революции он еще не привык.
16 Романов Владимир Вадимович (1876-1962) — морской офицер. Участник Русско-японской войны и Цусимского сражения. Служил в Морском генеральном штабе. Один из создателей военно-морской разведки Российской империи. Последний чин в императорском флоте — капитан 2 ранга. Участник Гражданской войны и Белого движения на Севере России. В 1921 г. эмигрировал. Жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, в Англии и Франции. Умер в Париже.
А. В. КОЛЧАК
<«Если бы Вы знали, как мне хочется участвовать в войне и думать об Анне Васильевне…»>
<Из писем А. В. Колчака А. В. Тимирёвой>
[Не ранее 28 июня 1917 г.]
[Датируется по сопоставлению с предыдущими письмами.]
Глубокоуважаемая, милая Анна Васильевна.
Позвольте поговорить немного с Вами — мне так хочется сегодня это сделать, хотя прошло всего три дня со времени Вашего отъезда и я мысленно живу пока воспоминаниями о Вашем пребывании в Петрограде [Далее — чистые полстраницы.]
Вы не будете очень недовольны за настоящее письмо, мне так хочется говорить с Вами, хотя прошло всего несколько дней, как Вы уехали в Ревель. Благополучно ли Вы доехали до дома и не очень ли было неудобно в дороге в непосредственной близости товарищей, забравшихся в вагон перед отходом поезда?
Вчера я сделал визит Марии Ильиничне и довольно долго беседовал с ней о текущих событиях, главным образом о нашем наступлении. Вчера были получены известия, что сын Марии Ильиничны, служащий в Семеновском полку, ранен во время последних операций, но подробности неизвестны, и Мария Ильинична вчера об этом осведомлена не была.
Мои дела с отъездом тянутся очень медленно — правительство формально уведомило меня об отправке меня во главе специальной военно-морской миссии в Америку, но вопрос о составе миссии все еще не решен. Тавастшерна после свидания с женой, видимо, колеблется оставить ее, и я не уверен, что он поедет со мной. Я понимаю его и не настаиваю, хотя он очень нужен для моей работы.
Являлась ко мне делегация офицерского союза с фронта и поднесла оружие с крайне лестной надписью. Я очень тронут таким отношением к моим настоящим деяниям и заслугам офицеров фронта, но я в душе предпочел бы, чтобы оснований, вызвавших это внимание, не существовало бы вовсе.
Сегодня я имел продолжительную беседу с председателем комиссии, посланной в Севастополь для расследования происшедших там событий, — А. С. Зарудным и выслушал истинно философскую историческую критику этого скверного дела. Как я ожидал, мнение истинного юриста сводится к тому, что сущность севастопольской истории в сравнении с делом великого исторического переворота ничего не стоит. Важен только факт моего ухода, безотносительно к причинам, его вызвавшим, и что ко мне может и должно быть предъявлено [требование] о «героическом самопожертвовании» и возвращении к командованию флотом Черного моря, т[ак] к[ак] препятствий для этого, кроме исходящих от меня, в сущности, нет. Вот это философия — я понимаю — Владимир Вадимович1 только ученик в этой области. С чего взяли, что ко мне могут предъявлять какие-то героические требования там, где я никаких элементов героизма не усматриваю. По совести говоря, «грабящий героизм» никогда не привлекал меня, и я сомневаюсь даже в существовании такого понятия. Только одна известная причина могла бы подвигнуть меня на такой поступок, который иногда в моих глазах кажется просто нелепостью. Вы знаете ее — но ведь на это сейчас никто же и не пойдет, тем более что остается всего три месяца. Но довольно философии.
Господи, как я думал все о Вас. Ваш милый, обожаемый образ все время передо мной. Только Вы своим приездом дали мне спокойствие и уверенность в будущем, и только Ваше [Фраза не дописана. Далее прочерк во всю страницу.]
Все это не имеет серьезного военного значения. Лично для меня только Вы, Ваш приезд явился компенсацией за все пережитое, создав душевное спокойствие и веру в будущее. Только Вы одна и можете это сделать. Все дни эти я думаю о Вас, как всегда, и Ваш обожаемый и бесконечно] милый образ так ясно и отчетливо находится передо мной. Я боюсь с каким-то почти суеверным чувством думать о том, что, может быть, я еще раз перед отъездом увижу Вас, я не смею просить ни у судьбы, ни тем более у Вас об этом.
Примите мое обожание и поклонение.
Целую ручки Ваши.
А. Колчак
[В начале страницы перед письмом сделана запись:
«5 июля 1917 г. Глубокоуважаемая] А[нна] В[асильевна].
Вчера вечером я получил письмо Ваше от 3 июля» — и затем все зачеркнуто, кроме обращения «Г. А.В.» и слова «вечером», вставленного между строк.]
Лондон 4/17 августа 1917 г.
Милая, дорогая, моя обожаемая Анна Васильевна.
Третий день, как я в Лондоне. Последнее письмо Вам я послал из Бергена за несколько часов до ухода на ss [Ss. — Steamship — пароход (англ.).] «Vulture» в Aberdeen. Переход Северным морем с конвоем миноносцев был прекрасен и не сопровождался какими-либо особенностями, хотя дня за два немцы утопили на этой линии пароход, несмотря на охрану и некоторые меры предосторожности. В Абердине я провел только одну ночь и на следующее утро выехал в Лондон, где теперь нахожусь в ожидании ухода в Америку. Впечатление после оставления России и тем более в Англии и Лондоне очень невеселое.
Испытываешь чувство, похожее на стыд, при виде того порядка и удобств жизни, о которых как-то давно утратил всякое представление у себя на Родине. А ведь Лондон находится в сфере воздушных атак, которые гораздо серьезней по результатам, чем об этом сообщает пресса. Немцы стараются атаковать Сити — район банков и главных торговых учреждений — и кое-что там попортили. Иногда они сбрасывают бомбы, как Бог (немецкий) на душу положит, и убивают почему-то преимущественно женщин и детей. Англичан это приводит в ярость, но средств прекратить эти немецкие безобразия нет, равно как и работу подлодок, преисправно топящих ежедневно коммерческие пароходы.
Но при всем том, повторяю, делается стыдно за нас, и испытываешь тихо укор совести за тех, кто остался в России.
Но последнее время в Англии появилось угрожающее движение Labour Party [Лейбористской партии (англ.).] с тенденцией создания Советов С[олдатских] и Р[абочих] Депутатов. Это несомненно немецкая работа, и англичане имеют в лице Ramsay Macdonald’a2 достойного сподвижника Ленина и проч[их] немецких агентов, которые у нас чуть ли не входят в состав правительства.
Но стоит ли говорить о политике, тем более что я почти ничего не знаю, что делается теперь у нас. Если бы Вы знали, как мне хочется участвовать в войне и думать об Анне Васильевне в обстановке, ее достойной. Только война может дать мне право на счастье ее видеть, быть вблизи нее, целовать ее ручки, слышать ее голос, и я хочу [Зачеркнуто: завоевать это все.] иметь это право. Но как трудно его завоевать, все, что ни делаешь, то кажется совершенно ничтожным и недостойным. И вот теперь, сидя в Лондоне, я чувствую, что я ничего не делаю уже два месяца в этом смысле, и возникают мрачные мысли, что, может быть, это не удастся сделать так, как я бы это хотел. Что, если американцы не будут действовать активно своим флотом? Root и Glenon ведь не выражают мнение всех U.S. of A[merica] [Соединенные Штаты Америки (англ.).]. Я ведь тоже хотел выполнить то, о чем они говорили, но ни высшее командование, ни правительство не признали это возможным [Зачеркнуто: И я смотрю на Вашу фотографию, которая стоит передо мною, и мне кажется, что она улыбается с…].
Лондон 7/20 августа.
Мое письмо задержалось на три дня. 5/18-го я с утра уехал на морскую авиационную станцию в Felixtowe, на берегу Северного моря, вернувшись, имел свидание с адмиралами Jellicoe и Penn3; 6/19-го я совершил поездку на английском автомобиле в Brighton и Eastbourne [Здесь и далее у Колчака ошибочно — Isbourne.], a сегодня с утра опять был в Felixtowe и участвовал в воздушной операции для поисков за подводными лодками в Северном море. Только что я вернулся из Felixtowe, и после трех дней довольно дикого движения на экспрессах, автомобилях и гидропланах я чувствую себя в довольно уравновешенном состоянии, и мне так хочется думать о Вас и говорить с Вами.
Рассказать Вам про английскую гидроавиацию? За два года англичане создали это оружие в таком размере и такого свойства, о котором мы не имеем представления. Я в Черном море хотел уничтожить существующую гидроавиацию, чтобы начать ее создавать вновь, но только здесь я убедился, что был прав. Англичане получили из авиации действительно грозное оружие, и надо приложить немедленно все усилия, чтобы не отстать и создать его у нас. Но Вы понимаете, какова задача «создать новое оружие» в нашей обстановке с «товарищами» и депутатами!
Рассказать Вам про свидание с адмиралом Jellicoe? Адмирал был исключительно любезен со мной и доказал лучшим образом свое отношение ко мне, перейдя сразу к делу, достав наиболее секретные карты заграждений Северного моря и Канала и посвятив меня в самые секретные оперативные соображения. Вы согласитесь, что большего внимания и любезности я не мог ожидать от бывшего командующего Grand Fleet’ом [Гранд-Флит (флот метрополии), букв. Большой флот (англ.).] и 1-го морского лорда. Я провел в высшей степени приятные 1 ½ часа, обсуждая с Jellicoe вопросы войны, забыв на время все остальное. Как редко у нас можно иметь такое удовольствие. Я перешел под конец к морской авиации и выразил желание принять участие в одной из обычных операций гидропланов. Jellicoe отнесся к этому как к наиболее естественной вещи и только спросил, желаю ли я идти на миноносце или на гидро. После ответа моего, что я хочу идти на гидро, чтобы посмотреть их боевую работу, был вызван адмирал Penn, 5-й лорд Адмиралтейства и начальник морской авиации. Penn, выслушав Jellicoe, ответил только: «Yes, Sir» [Да, сэр (англ.).] — и спросил, какой род операции я желал бы видеть: против подлодок или против цеппелинов. Обсудив над картой вероятность той или другой операции и имея в виду, что воздушное крейсерство для наблюдения за цеппелинами менее вероятно в смысле встречи, т[ак] к[ак] в общем они появляются теперь над морем после нескольких случаев уничтожения английскими аэропланами очень редко, я остановился на чисто морской операции против подлодок. Penn ответил, что два аппарата последнего типа будут в моем распоряжении [Далее зачеркнуто: и узнав, что я уже неоднократно летал на гидро], а сегодня я с утра в Felixtowe. Вчера же я с лейтенантом Дыбовским4 сделал автомобильный пробег на лучшем гоночном автомобиле Rolls-Roise, дающем 120-130 км. Мы сделали около 250 миль, пройдя из Лондона в Брайтон и Eastbourne, и только ночью вернулись в Лондон. Я первый раз видел такую совершенную машину такой мощности, и при идеальном управлении лейтенанта Дыбовского подобный пробег действительно доставляет высокое удовольствие. Сегодня я утром перебрался в Felixtowe на авиационную станцию, где меня ждали два поразительных аппарата — это уже не летающие лодки, а нечто вроде воздушных миноносцев, вооруженных 5-ти и 8-ми пудовыми бомбами, 4-мя пулеметами, с незнакомой у нас мощностью двойных моторов и радиусом действия.
Три аппарата уже вышли в море — до моего приезда, — я понял, что это мера предосторожности, о которой не сказал мне ни Jellicoe, ни Penn, и понял, что встретить теперь противника почти невозможно, ибо немцы не имеют таких огромных воздушных крейсеров и их гидро не рискуют нападать на них, цеппелины также избегают с ними встреч, а подлодки немедленно прячутся на глубину. Пять таких воздушных крейсеров действительно осуществляют господство над воздухом там, где они появляются, и от них спасается все, что может. Т[аким] обр[азом], полет получил только технический интерес почти без надежды встретить противника. Но говорить об этом не приходилось, конечно.
Когда я ознакомился с управлением пулеметом Lewis’а и прицельным аппаратом для бомбометания, два огромных биплана поднялись на воздух и направились к голландскому маяку North Hinder и далее в море к бельгийскому берегу. В районе Hinder посредине Северного моря уже крейсировали три другие машины.
Английские траулеры и миноносцы остались далеко позади, и кругом было пустынное Северное море с обычным для него мглистым горизонтом, несмотря на ясный солнечный день. Аппараты разделились, и каждый пошел по определенному направлению, осматривая море с высоты 1000-1200 z. [Z. — zenith distance (англ.) — зенитного расстояния.] футов. Ни одного воздушного аппарата не замечалось со стороны Остенде и Ньюпорта, где находятся большие немецкие аэропланные станции, ни одного неприятельского судна там не было видно, только одно место мне показалось подозрительным — между пятнами отмелей, более светлыми, чем глубины моря, был виден какой-то силуэт, похожий на судно, лежащее под водой. Мы снизились и детально обследовали это место, по-видимому, там лежал потопленный пароход — по форме это не была подлодка, и я, приготовившись сбросить бомбы, все-таки воздержался, т[ак] к[ак] мне не хотелось делать несерьезное дело — бросать бомбы в какого-то утопленника. К вечеру все машины вернулись в Felixtowe, и я с гидро пересел в автомобиль и после отличного пробега километров по 80 в час переехал в Ипсвич, откуда по железной дороге вернулся в Лондон. Мне немного жаль, что не удалось встретиться с неприятелем, но для этого нужен, конечно, не один день, или же надо было бы перебраться на материк в Дюнкерк, откуда постоянно делают полеты воздушные эскадрильи для бомбометания на фронте и каждый день происходят встречи с противником. Англичане действительно владеют морем не только на поверхности, но и в воздушном районе над этим морем, и немцы только неожиданно могут совершить воздушные рейды такого же характера случайных облав, как и своими судами, — систематически же оспаривать господство англичан там они не могут. Надо видеть средства, которыми они располагают, чтобы понять, что такое господство над морем или воздухом, и почувствовать, как далеки мы от этого.
Надо испытать то чувство уверенности в силе, желание встречи с противником, которое является, когда имеешь действительно совершенное оружие, качественно и количественно превосходящее таковое же у противника. Первый раз на воздухе я испытал это чувство и вспомнил свой флот, свою авиацию, и невесело сделалось на душе. Невольно является зависть к людям, которые действительно ведут войну и работают для своей родины, и при этом работают в прекрасной обновке, о которой мы утратили всякое представление. А ведь все это могло бы быть и у нас, но… лучше не говорить на эту тему.
Я думал, конечно, и о Вас, как всегда думаю во время всякой военной работы, — я уже писал Вам и говорил, что я, как ни странно, но во время военной работы вблизи неприятеля или в районе его, вспоминая Вас, переживаю вновь то чувство радости и счастья, точно я нахожусь вблизи Вас. Я понимаю, что это, может быть, нелепо, но, вероятно, я невольно чувствую себя как-то более достойным этого счастья, когда занят войной, когда нахожусь в обстановке военной работы, чем в обычных условиях будничной серой жизни. И сегодня я так был счастлив, думая о Вас в Северном море, вспоминая последние наши дни, когда я Вас видел, когда Вы были так близко ко мне, когда Вы с такой лаской отвечали моему желанию видеть Вас, быть около Вас, слышать Ваш голос; так хорошо вспоминать Ваши милые обожаемые ручки, Ваши глазки, так похожие на голубовато-синее море. Правда, Северное море, представляющее в этих районах местами какое-то чудовищное минное болото с тысячами мин и сетей — не очень лестное сравнение, особенно на мостике миноносца или крейсера, но с аэроплана оно не вызывает своеобразных и малоприятных ощущений. Я почти с удовольствием посмотрел на всплывшую или сорванную мину, плавающую у отмелей голландского берега, — с высоты 500 метров она производит другое впечатление, чем когда проходит по борту миноносца. Но я начал говорить вздор. A Jellicoe — настоящая химера; достаточно сказать, что все находят странное сходство между ним и мною. Я не берусь судить, насколько это верно, но что некоторой общности приемов держать себя и говорить, я не могу отрицать.
8/21 августа.
Сегодня приехал с Grand Fleet кап[итан] 1-го р[анга] Шульц5 и рассказал об ужасном взрыве английского дредноута «Vanguard» на рейде Скапа.
Около 11 h[our] [часов (англ.).] вечера «Vanguard», стоя на якоре посреди Grand Fleet’а, взорвался весь, причем с него подобрали только 2-х матросов, оставшихся в живых. Это из 1100 человек экипажа. Причины так же неизвестны, как и во всех подобных случаях. В английском флоте это 4-й случай, и надо думать, что дело лежит в каких-то внутренних изменениях пороха. Худо то, что у англичан происходит при частном взрыве общая детонация боевых запасов, чего не было, напр[имер], на «Имп[ератрице] Марии». Это случилось у них и в Ютландском бою с «Queen Mary» и другими кораблями при взрывах погребов6. Простите меня, Анна Васильевна, что я пишу Вам о таких вещах. Я так привык думать о Вас в связи со всякими военными делами и вопросами, что иногда невольно начинаю говорить с Вами на темы, совершенно для Вас чуждые и неинтересные. Не поставьте в вину это Вашей химере, которая, может быть, заслуживает «милостивого снисхождения» с Вашей стороны хотя бы за то, что она молится на Вас и думает о Вас все время, вечно своем светлом божестве, помимо которого нет не только счастья, но даже обычного удовольствия или развлечения. Для меня нет другой радости, как думать о Вас, вспоминать редкие встречи с Вами, смотреть на Ваши фотографии и мечтать о том неизвестном времени и обстановке, когда я Вас снова увижу. Это единственное доказательство, что надежда на мое счастье существует, но я знаю, как трудно получить теперь от Вас письмо, и я стараюсь не думать об этом. Когда-нибудь я получу от Вас несколько слов, которые так бесконечно для меня дороги, как все, что связано с Вами.
[Позднее 21/8 августа 1917 г.]
[Датируется по предыдущему письму.]
Милая, дорогая, обожаемая Анна Васильевна.
Простите меня за смелость, с которой я решился послать Вам [Далее вставлено и затем зачеркнуто: фотографические принадлежности] несколько вещей, которых теперь нет в России и которые, может быть, Вам пригодятся. Я знаю, что Вы будете сердиться на меня, но простите со свойственной Вам милостью и добротой меня за то, что я доставил себе удовольствие хотя немного подумать о Вас, о Ваших милых ручках, которые так много дали мне высокого счастья.
Я буду оправдываться. Я не имею и не получил от Вас права что-либо послать Вам, но мне так хотелось хоть что-нибудь сделать для Вас в пределах совершенно допускаемого почитания, что я обратился к одной очаровательной даме — жене нашего морского офицера кап[итана] 2-го р[анга] Дыбовского — помочь мне в решении этого вопроса своим советом и указанием. Поэтому позвольте в виде оправдания своего сослаться на мнение дамы, вполне осведомленной в принятых в Англии обычаях. Я очень боюсь, что Вы будете недовольны некоторыми вещами, но я положительно действовал не вполне самостоятельно, а руководствовался выбором и советом, которые считал компетентными. Милая Анна Васильевна, я очень огорчен, что Вы мне не дали никаких поручений. Я мог бы послать Вам действительно полезные и необходимые вещи, которых теперь нет у нас в России, и если бы Вы доставили мне удовольствие служить Вам в этом смысле, прислав соответствующие указания.
Напишите мне, милая Анна Васильевна, что бы Вы желали получить из Англии или Америки, и я буду считать это, во-первых, что Вы прощаете и не сердитесь на меня и, во-вторых, лучшим удовольствием, которое я могу теперь иметь. Я не могу ручаться только за время, так как почта теперь не существует. Я просил бы указать мне необходимые номера и размерения, т[ак] к[ак] у меня имеется только одна перчатка Ваша, номером которой я руководствовался. Я думаю, что Вы не осудите меня, т[ак] к[ак] в России теперь нет самых необходимых вещей, и, может быть, я мог бы быть счастлив служить Вам. Я укажу на такие вещи, как обувь, полотно, материи и проч[ее]. Извиняюсь за упаковку — надо спешно посылать в посольство вещи для отправки с вализой, а у меня нет ничего под руками, кроме кожаного ящика, и я боюсь, что Вы получите некоторую смесь, за что на всякий случай прошу не очень осуждать мое умение укладывать посылки.
[Август 1917 г.]
[Датируется по смежным письмам.]
Моя мечта, моя идея военного успеха и счастья.
Моя милая, дорогая, обожаемая Анна Васильевна.
Я смотрю на Ваши последние фотографические изображения, которые стоят передо мной. Это Ваш снимок, где Вы сидите на окне, кажется, в Гельсингфорском Kemp Hotel’е, и другой, где Вы сняты, по-видимому, в Ревеле около какой-то странного стиля для прогулки с ручками, спрятанными в карманы, и почему-то закрытыми глазками, но фотография, несмотря на малое увеличение, передает Вашу милую, никогда не забываемую улыбку, с которой у меня всегда связаны представления об утренней заре, о каком-то светлом счастье и радости жизни, которое я всегда испытывал, и находясь вблизи Вас, и думая о Вас с первых дней нашего знакомства. Я говорил сегодня в обществе весьма серьезных людей о великой военной идее, о ее вечном значении, о бессилии идеологии социализма в сравнении с этой вечной истиной, истиной борьбы и вытекающих из нее самопожертвования, презрения к жизни во имя великого дела, о конечной цели жизни — славе военной, ореоле выполненного обязательства и долга перед своей Родиной. И Ваш милый, обожаемый образ все время был перед моими глазами — Ваша никогда не забываемая улыбка, Ваш голос, Ваши розовые ручки для меня являются символом высшей награды, которую может дать жизнь за выполнение величайшей задачи, выполнение военной идеи, долга и обязательств, посылаемых суровой и непреклонной природой войны… Только война могла показать мне Вас в таком близком желании и в то же время недоступном, как идеал поклонения… Как тяжело и в то же время хорошо думать о Вас как о чем-то самом близком и в то же время удаленном, как звезда, счастье, как [о] божестве, милостиво оказавшем свое внимание и остающемся чем-то недосягаемым; как о воплотившейся мечте, остающейся несбыточной и нереальной, как всякая мечта.
Господи, как Вы прелестны на Ваших маленьких изображениях, стоящих передо мною теперь. Последняя фотография Ваша так хорошо передает Вашу милую незабываемую улыбку, с которой у меня соединяется представление о высшем счастье, которое может дать жизнь, о счастье, которое может явиться наградой только за великие подвиги. Как далек я от них, как ничтожно кажется все сделанное мною перед этим счастьем, перед этой наградой. Но разве не прекрасна война, если она дает такую радость, как поклонение Вам, как мечту о Вас, может быть, даже и несбыточную… Вот о чем я думал, говоря сегодня в обществе военных людей свою апологию войне, высказывая веру в нее, с чувством глубокой благодарности ей, что она в лице Вашем дала мне награду за всю тяжесть, за все страдания, за все горести, с ней связанные, ибо война, как сказал еще один великий философ, суть область страданий и лишений физических и моральных по преимуществу. «Находите ли Вы компенсацию за все это или Вы чувствуете горечь разочарования в Вашем служении военной идее и войне? » — спросили сегодня меня. Служение идее никогда не дает конечного удовлетворения, но в личной жизни — я вспомнил Вас, Ваши слова, Ваши письма, Ваши розовые ручки, часы, когда Вы были вблизи меня, — и я ответил: да, война дала мне полную компенсацию, дала счастье и радость, о которой я до нее не имел представления. Милая, обожаемая моя Анна Васильевна, Вы вся такое счастье, что одна мысль о Вас, надежда Вас увидеть, услышать Ваш голос, все воспоминания о Вас, о часах, проведенных с Вами, дают такое непередаваемое чувство светлой радости, что все будущее кажется каким-то хорошим и все мрачное и тяжелое отходит куда-то в сторону. Правда, тяжело думать о расстоянии, которое на днях увеличится на тысячи миль, о времени, когда я Вас снова увижу, но я хочу верить в Вас, Анна Васильевна, верить как в божество, которое когда-нибудь снизойдет до меня и даст мне счастье своей близости, как это было в июне и июле в Петрограде и в прошлом году в Ревеле.
Вы писали мне о вере — да разве я могу не верить в свое божество, без которого у меня нет даже представлений о счастье и радости жизни; ведь без веры нет и надежды увидеть Вас, такой милой, обожаемой, ласковой, как божество, с Вашей розовой улыбкой и ручками. Но я боюсь, что надоел Вам изложениями своих воспоминаний о Вас. Я хотел бы думать, что Вы не осудите и не поставите мне в вину это письмо. Ведь только глубокое обожание и поклонение Анне Васильевне как светлому божеству я ничего [иного] не хотел высказать.
Г[осподь] Бог рад будет сохранить и благословить Анну Васильевну, мое светлое счастье и радость.
[Ранее 30/17 августа 1917 г.]
[Датируется по следующему письму.]
Сегодня я перечитал все письма Ваши, полученные мною после моего отъезда за границу. У меня нет теперь другого удовольствия, нет забвения, как остаться одному и перед Вашими фотографиями перечитывать Ваши письма и смотреть на них, вспоминая те немногие дни, когда я был близко от Вас.
Как-то забывается тогда действительность, так противоречащая всему тому, что я привык соединять с думами и мечтами о Вас. Иногда я исписываю несколько листков бумаги и бросаю их затем в камин — по большей части это не имеющие значения слова, с которыми я обращаюсь к Вам, чаще я ничего не пишу, а только смотрю на Ваши карточки и Ваши письма и забываю на некоторое время, где я нахожусь и что ждет меня в моей странной для самого себя жизни. И, думая о Вас, я временами испытываю какое-то странное состояние, где мне кажется прошлое каким-то сном, особенно в отношении Вас. Да верно ли я забыл когда-нибудь Анну Васильевну, неужели это правда, а не моя собственная фантазия о ней, что я был около нее, говорил с нею, целовал ее милые розовые ручки, слышал ее голос. Неужели не сон сад Ревельского Собрания, белые ночи в Петрограде, может быть, ничего подобного не было.
Но передо мной стоит портрет Анны Васильевны, с ее милой прелестной улыбкой, лежат ее письма, с такими же милыми ласковыми словами, и когда читаешь их и вспоминаешь Анну Васильевну, то всегда кажется, что совершенно недостоин этого счастья, что эти слова являются наградой незаслуженной, и возникает боязнь за их утрату и сомнения.
Ss. «Gloucestershire» 30/17 августа 1917 г.
Ирландское море
Милая, дорогая моя Анна Васильевна
Вчера утром я уехал с миссией из Лондона в Glasgow, считая невозможным ждать далее телеграмм из Петрограда, имея сведения о крайне трудном теперь сообщении с Америкой и желая воспользоваться любезностью Адмиралтейства, предложившего мне совершить переход через океан на вспомогательном крейсере «Gloucestershire» — это океанский пароход компании Bibby Line, бывший ранее на Ост-Индской линии, относительно сильно теперь вооруженный и во время войны исполняющий обязанности дозорной и крейсерской службы в Северном Атлантическом океане. За две недели Лондон порядочно надоел, хотя я все время уезжал из него, и я уехал в Glasgow с надеждой поскорее уйти в океан и заняться кое-какими подготовительными работами для американского флота. В Glasgow мы прибыли в 7 ½ p.[m], [p.[m]. — post meridiem — пополудни (лат.).], а в 9 h[our] крейсер уже шел вниз по Clyde’у. Выход в океан по северную сторону Ирландии оказался заблокированным немецкими подлодками, утопившими там за последние дни 5 пароходов, и Адмиралтейство указало на путь к югу. Пошли на юг Ирландским морем. Продолжавшийся три дня шторм со скверной осенней погодой почти стих, но холод и дождь продолжались. Ночью получили приказание идти в Ливерпуль, а не в океан — немцы перетопили несколько пароходов и на южном выходе. Здесь я наглядно убедился, что подводная война серьезнее, чем мы думали, и немцы, перенеся последнее время работу своих подлодок на океанские подходы к Англии, создали серьезные затруднения для морских сообщений. Ирландское море совершенно пустынно. Где раньше встречались десятки пароходов, теперь мы видели только два да несколько тральщиков, несущих свою дозорную службу.
Ливерпуль.
Около 7 h[our] вечера пришли на рейд. Второй после Лондона торговый порт кажется почти пустым — куда исчезли огромные трансатлантические liner’ы [лайнеры (англ.) — пароходы, совершающие регулярные рейсы], сотни пароходов и парусников — видимо, они направляются в другие порты или их нет просто-напросто: большинство занято военными перевозками, часть потоплена… Торгового движения, не говоря о пассажирском, в сущности, нет — все сообщения имеют военные цели и обслуживают только потребности войны. Получили приказание идти в океан с конвоем миноносцев, а пока ждать.
Из России пришли отвратительные известия. Не умею сказать, как тяжело думать об этом при сознании бессилия если не помочь, то хоть участвовать лично в текущих событиях на своей Родине.
На ходу у SO [У юго-восточных (SO — зюйд-ост, юго-восток).]
берегов Ирландии 31/18 августа.
Утром снялись и пошли в море целым отрядом. С нами идет огромный океанский liner «Carmania» с больными и ранеными канадскими войсками, отправляющимися на родину, малый крейсер «Isis», большой крейсер «Donegall» и 4 истребителя7. Дождь, мгла и свежий W-й [Западный (W — вест, запад).] ветер; пройдя вдоль берегов о[стро]ва Anglesey, прошли каналом Св. Георгия к ирландскому берегу и теперь идем на юг вдоль него.
Вечером после обеда я долго ходил по палубе, думая о нашем флоте, о Вас и о темном неизвестном будущем. Ночь мглистая, временами дождь, временами проглядывает полная луна, и тогда делается совсем светло и показываются очертания ирландского берега. Странно быть в море, не принимая участия в походе, в сигналах и маневрировании, но что поделать.
Милая Анна Васильевна, что делаете Вы в этот вечер? Вы, вероятно, еще в деревне, и у Вас также наступает осень, возможно, что и погода такая же, как здесь. Как хочется иногда повидать Вас; писем от Вас в Англии я не получил — это показатель, как скоро они доходят. Ведь я провел в Лондоне 15 дней. Когда я получу письма Ваши в Америке? Если даже сегодня они пришли в Лондон, то не ранее как дней через 20 я могу надеяться прочесть их в Вашингтоне. Остается вспоминать прошлое, дни, когда я Вас видел, мечтать о тех, которые «когда-нибудь, может быть», и настанут. Но что можно придумать при выходе из Ирландского моря в океан? Иногда кажется, что Ваше пребывание в Петрограде в конце июня и в июле было только сном, а не действительностью.
Да, по существу, важно ли это… А вот действительность, совсем не похожая на сон. Мои мечты о Вас были прерваны командиром, который подошел ко мне и лично передал только что полученную радио; дозорное судно сообщает флоту, что в канале погибает пароход, взорванный не то подлодкой, не то наткнувшийся на мину заграждения, поставленную подлодкой же. Надо идти спать. Спокойной ночи, Анна Васильевна.
Атлантический океан 2 сентября/20 августа.
Вчера было довольно свежо, но за ночь стихло. Остается только большая океанская зыбь, идущая с северо-запада, на которой довольно спокойно и судам и миноносцам. Мы спустились довольно далеко к югу, в сторону от обычных путей через океан, во избежание встреч с подлодками. Мин здесь уже нет — глубины более 2000 сажен. Я начал составлять записку о реорганизации флота — но кому ее подать и кто будет осуществлять эту новую организацию? Не в проектированный же присяжным поверенным «высший морской совет» с доверенными из матросов 2-й ст[атьи] с революционным цензом, основанным на разряде неисправимо дерзкого поведения.
Присматриваясь к жизни на этом вспомогательном крейсере, испытываешь боль за позорное состояние нашего флота. Хочется не думать о том, о чем думал всю жизнь.
Около трех часов миноносцы оставили нас и ушли обратно. Погода к вечеру несколько ухудшилась; небо покрылось облаками, по горизонту мгла, ветер свежеет, и временами дождь.
3 сентября/21 августа.
Ночью крейсера «Donegall» и «Isis» отделились, и теперь мы идем только с одной «Carmania» — мы уже далеко в океане, и встреча с подлодкой может быть только случайной и маловероятной. Сегодня прекрасное, солнечное, тихое и теплое утро и огромная зыбь, идущая с запада. Один за другим, без конца идут огромные отлогие голубые валы, движимые силой инерции колебательного движения. Когда-то я много думал о теории волнения и вел наблюдения над его элементами; теперь я смотрю на него довольно равнодушно, хотя зыбь весьма величественная. Огромная «Carmania» наклоняется вся между двумя соседними вершинами и временами уходит до палубы полубака в воду, а высота ее носовой части не меньше 30-35 футов. За день видели на горизонте только один пароход.
4 сентября/22 августа
Сегодня утром получена отвратительная радио. Нами оставлена Рига. Неужели же это не доказательство полной несостоятельности того, что не имеет, в сущности, названия, но почему-то называется «правительством». Позора Юго-Западного фронта было недостаточно, неужели мало нового на Северном фронте. Больше всего заботит меня вопрос о флоте и Рижском заливе. С падением Риги все крайне осложняется и будущее кажется совершенно безнадежным. Два года тому назад я работал в Рижском заливе и, вернувшись в Гельсингфорс, увидел Вас. Это был один из хороших периодов моей жизни. Рижский залив, Минная дивизия, совместные операции с сухопутными войсками, Радко-Дмитриев, Непенин, наконец, возвращение и встреча с Вами, с милой, обожаемой Анной Васильевной.
Так неужели же Рижский залив в руках неприятеля? Весь ужас, что средства теперь в несколько раз сильнее, чем были тогда… Но что говорить об этом посредине Атлантического океана. Надо поговорить о чем-нибудь другом.
Позвольте рассказать Вам об угре, о common eel [обыкновенный угорь (англ.)]. Я прочел сегодня под влиянием известия о падении Риги сообщение о метаморфозах угря и думаю, что Вам они неизвестны. Помимо того что угорь бывает в маринованном виде, он является одной из самых удивительных рыб, нам знакомых. Прежде всего, его родиной является Атлантический океан, точнее, часть его, заключенная в треугольнике: о[стро]ва Фарерские, Бермудские и Азорские. Мы как раз проходим это место с глубинами 2000-2500 саж[ен]. Но это еще ничто, а удивительно, что эта рыба размножается и появляется на огромной океанской глубине более 1000 сажен, т. е. в обстановке полного мрака, температуры около 0 (и давления примерно в тонну на один квадратный дюйм [В рукописи: 1 п. д.]. Для чего такие условия понадобились природе, чтобы создать обыкновенного угря, я, конечно, не берусь объяснить. Появившись в такой симпатичной обстановке в совершенно невероятном виде, эта рыба постепенно переселяется в верхние слои океана и затем направляется в моря и пресноводные реки и озера; приняв уже обычную форму, угорь забирается во внутренние части материков, переползая по суше значительные пространства, и затем отправляется обратным путем для размножения и смерти на океанскую глубину. Не правда ли, удивительное явление: существо в течение жизни меняет условия существования от океанской глубины до пребывания чуть ли не на земной поверхности. Вы не сердитесь на меня за этот вздор, который я пишу Вам? Сейчас новая радио о занятии Риги немцами и воздушной бомбардировке немецкими аэропланами Чатама: они убили там 107 человек и ранили более 80 — это уже довольно серьезно. Французы сообщают о том, что их летчики выгрузили на неприятельской территории 15 тонн взрывчатых веществ, а мы, мы отдали Ригу во славу германской агентуры и ее пособников, управляющих Россией.
Я только что вернулся с палубы. Сегодня чудесный летний день (вернее, вечер), зыбь улеглась, безоблачное небо и почти полная луна. Я думал о Вас, о Черном море, где я также на походах ходил по палубе своего корабля, о Рижском заливе, о встречах с Вами в Гельсингфорсе. Все изменилось, только милый, ласкающий образ Ваш остался неизменным; таким же бесконечно дорогим, как раньше, так и теперь он так ясно представляется мне в эту тихую лунную ночь в океане. Неужели Вы были так близко от меня, ездили и ходили со мной целые часы и я был около Вас, держал и целовал ручки Ваши; а сегодня я подсчитал расстояние, отделяющее Вас от меня, — около 3000 миль, но оно увеличивается с каждым оборотом винта и в Вашингтоне будет около 4500 миль по прямому направлению, а если взять действительный путь, то получится более 5000 миль. Вот уже месяц, как я получил последнее письмо Ваше.
Надо окончить это письмо; завтра — начну другое, а то оно примет размеры, которые удивят, пожалуй, Владимира Вадимовича.
Спокойной ночи и до свидания, моя милая, бесконечно дорогая Анна Васильевна.
Целую обожаемые ручки Ваши, насколько это мыслимо сейчас.
Господь Бог сохранит и благословит Вас.
А. Колчак
Вашингтон 12 октября/29 сентября 1917 г.
Милая, дорогая Анна Васильевна.
Вот уже два месяца, как я нахожусь в Соединенных Штатах, а вализа первый раз идет только, поэтому Вы получите, вероятно, разные письма, которые я не решался отправить почтой.
Я писал Вам, что мои надежды на участие в известной Вам операции не оправдались. Обсуждение этого вопроса в Вашингтоне выяснило неосуществимость такого предприятия из-за недостатка тоннажа. Кроме того, англичане с Джеллико, озабоченные снабжением Великобритании, решительно против этой операции, т[ак] к[ак] выделить для нее несколько сот пароходов теперь невозможно. Мои дела поэтому заканчиваются, и я чувствую необходимость вернуться в Россию, хотя совершенно не знаю, что буду там делать. Россия фактически перестала воевать, так смотрят на нее все союзники, и единственное их требование — которое они нам предъявляют — это незаключение сепаратного мира. На будущей неделе я предполагаю уехать с миссией из Вашингтона и направиться домой via [через (лат.).] Тихий океан. Неопределенность положения вещей в Швеции и Финляндии и нежелательность обратиться к содействию Англии для обратного путешествия вызывают признать более удобным путь через Дальний Восток. Navy Departament [Морской департамент (англ.)] предложил, кроме того, посетить С[ан]-Франциско и Педжет-Саунд, и мне не хочется отказываться от этого предложения, а т[ак] к[ак] мы попадем на берега Тихого океана, то путь на Владивосток является естественным. Итак, я не участвую в войне, я не буду говорить Вам, насколько тяжело это для меня, да это и бесполезно, т[ак] к[ак] до прибытия в Россию все равно изменить это положение невозможно. В крайнем случае, можно будет обратиться к английскому флоту, где у меня есть некоторые знакомства. Могу сказать только, что пребывание за границей очень тягостно ввиду того, что мы справедливо заслужили везде сомнение в своей способности не только вести войну, но даже справиться со своими внутренними делами. Англичане относятся к нам совершенно отрицательно, в Америке смотрят на нас лучше, но, повторяю, я не могу отделаться от чувства неловкости, когда бываю в форме русского офицера… Последние дни я стал временами входить в состояние какой-то прострации — слабое утешение доставило только известие о бунте команд в Германском флоте. Правда, это не то, что у нас, но нечто в этом же стиле, и немцы со своей системой развращения и разложения вооруженной силы своих врагов попались сами на принятых приемах использования пропаганды социализма для этой цели… Милая Анна Васильевна, не сердитесь на это письмо — оно невольно отражает мое состояние, а последнее в высшей степени неважно. Не знаю, что скажу я Вам при встрече, — мое пребывание в Америке есть форма политической ссылки, и вряд ли мое появление в России будет приятно некоторым лицам из состава настоящего правительства. Но там видно будет! Последние события на рижском фронте уже являются серьезной угрозой для южного берега Финского залива — остаетесь ли Вы на зиму в Ревеле или уедете оттуда, я думаю, что вряд ли в Ревеле оставаться будет возможно. Теперь наступила уже осень, и скоро военные операции в Балтике и Прибалтийском крае должны будут приостановиться. Едва ли немцы будут в состоянии теперь развить большие операции, тем более что англичане усиливают все время свою деятельность на Западном фронте. Во всяком случае, мы не можем рассчитывать на какой-нибудь успех ни на море, ни на суше, и наша военная будущность зависит от способности немцев продолжить активное ведение войны на нашей территории. В Америке считают, что окончание войны не будет ранее конца будущего лета — конечно, сказать трудно, но, видимо, зимняя кампания неизбежна, а для нас, в частности для флота, зима — это время внутреннего разложения, если есть чему разлагаться… Но я верю, что мои мечты рано или поздно сбудутся — может быть, мне не придется в них участвовать как деятелю, но без осуществления их наша Родина не может быть мыслима как великая независимая держава. Как близко началось выполнение моих планов и как далеко оно представляется теперь, и так же далеко милая, дорогая Анна Васильевна, с которой я последнее время так привык связывать свои военные задачи, принявшие теперь действительную форму нелепой химеры.
До свидания, дорогая моя, обожаемая Анна Васильевна.
Господь Бог сохранит и благословит Вас и избавит от всяких испытаний.
Целую Ваши милые ручки, как всегда с глубоким обожанием и преданностью.
А. Колчак.
[Не ранее ноября 1917 г.]
[Датируется по времени прибытия Колчака в Японию
(начало ноября 1917).]
В эти дни ожидания, которое временами становилось невыносимым, я часто ездил в Токио и бродил по самым отдаленным японским кварталам. Заходя в лавки со старым хламом, задавшись целью найти старинный японский клинок работы знаменитейшей старинной фамилии оружейников старой Японии Майошин. Фамилия Майошин ведет начало с XII столетия, и в феодальные периоды Камакура и Асикага она поставляла свои клинки сиогунам и даймиогам, и каждый уважающий себя самурай, когда приходилось прибегнуть к хара-кири, проделывал эту операцию инструментом работы Майошин. Клинки Майошин, действительно, — сама поэзия, они изумительно уравновешены и как-то подходят к руке, они сварные (в то время сталь выделывалась очень небольшими пластинками), с железным мягким основанием, великолепно полирующимся, с наваренным стальным лезвием, принимающим остроту бритвы, с особым тусклым матовым оттенком и характерной зигзагообразной линией сварки железа и стали. Перед моими глазами прошли десятки великолепных старых клинков, и надо было большое усилие, чтобы удержаться от покупки, но я хотел клинок Майошин, и никакой другой. Наконец, после великих розысков, я забрался в одном из предместьев Токио в довольно убогую лавчонку, в которой ничего на виду не было, — старый японец принес несколько старинных сабель и кинжальных ножей в великолепной работы ножнах старого лака с художественными украшениями из чеканной бронзы — но меня это мало интересовало. Я знал, что старинные клинки великих мастеров теперь не оправляются, представляя сами по себе большую ценность, и деревянные ножны и эфесы почти всегда новейшей работы, ибо дерево не выдерживает несколько столетий. Я назвал имена знаменитых оружейников Иосихиро, Масамуне, Иосимитсу, при имени которых хозяин проявил почитание, граничащее с [На этот текст обрывается.]
Shanghai 29/16.1.1918 г.
Дорогая, милая моя, обожаемая Анна Васильевна,
Вчера я прибыл на «Montengle» в Shanghai, и снова приходится сидеть в этом чужом городе и ждать «Dunera», которая опоздала и уйдет на юг только через неделю. Я когда-то хорошо знал Shanghai и провел в нем не один месяц. Кое-что переменилось здесь, но в общем все осталось то же. Я первый раз был здесь в годы нашего империализма на Востоке, когда я с гордостью чувствовал себя русским офицером и чуть ли не хозяином положения, — теперь я в этом городе по приказанию правительства Его Величества короля Великобритании. Мне тяжела любезность и предупредительность английских властей и всех, с кем я имею дело, — я еще не начал фактически новой службы. Я предпочел бы, чтобы обо мне никто не знал и не говорил, — но ничего не поделаешь, приходится считаться с отношением ко мне как вице-адмиралу [Далее зачеркнуто: а какой же я теперь вице-адмирал?] со стороны и английского и русского общества.
Мне тяжело — прошлые воспоминания каким-то камнем ложатся на душу, — и я прибегаю к единственному средству забыть все это — думать и говорить с Вами. Ваши фотографии стоят передо мной, и милая, обожаемая Анна Васильевна со своей всегда прелестной улыбкой точно смотрит на меня так же, как в те немногие дни, когда я видел ее в действительности [После исправлений последней фразы конец письма перечеркнут: …так близко, сидел около нее и говорил с нею. Повторятся ли когда-нибудь эти дни. Надо быть так далеко, как мне пришлось в последние месяцы, чтобы оценить, что такое видеть Анну Васильевну, быть около нее. Ведь не сон же были семь месяцев тому назад дни, когда Анна Васильевна была в Петрограде, ходила со мной и ездила по улицам Петрограда, когда я держал ее милые, прелестные ручки; а может быть, этого совсем не было. Неужели же никогда это больше не повторится… Приходится встать на философско-историческую почву и признать, что если даже это и не повторится, то прошлое, связанное с Анной Васильевной, было так хорошо, что остается только благодарить то высшее начало, которое дало это счастье. А дальше — пусть будет то, что будет.]
30.1.1918 г.
Меня устроили в Shanghai Club. Это почтенный английский клуб, быть может, лучший на Дальнем Востоке по обстановке и комфорту, которые могут быть созданы только великой английской культурой. Но меня не радует и [мне] не доставляет удовольствия эта культура, когда я думаю о своей Родине, о том, в каких условиях, может быть, приходится жить Вам и всем, кто решился остаться дома. Поскорее бы к обстановке войны, где я буду чувствовать себя точно вернувшись «домой». Другого дома теперь у меня нет и быть не может.
Милая, дорогая Анна Васильевна, временами под влиянием отрывочных известий из России, оставляющих впечатление какого-то сумасшедшего бреда, мне кажется, что Вы, получив мои последние письма, будете недовольны моим решением и, может быть, отвернетесь от меня. Если бы Вы знали, как тяжело для меня это представление. Моя вера в войну, ставшая положительно каким-то религиозным убеждением, покажется Вам дикой и абсурдной, и в конечном результате страшная формула, что я поставил войну выше родины, выше всего, быть может, вызовет у Вас чувство неприязни и [Далее зачеркнуто: справедливого] негодования. Я отдаю отчет в своем положении — всякий военный, отдающий другому государству все, до своей жизни включительно (а в этом и есть сущность военной службы), является кондотьером с весьма сомнительным на идейную или материальную сущность этой профессии. Как посмотрите Вы на это — я не знаю. Но меня, конечно, заботит этот вопрос, вопрос, существенный для меня только в отношении Вас, и только Вас. Минутами делается так тяжело, что кажется ненужным и безнадежным писать это письмо Вам.
Милая моя, так бесконечно дорогая моя Анна Васильевна, никогда, кажется, я не чувствовал такой безнадежной отдаленности от Вас, и географической, и по обстановке, и по времени, которое отдаляет Вас от меня, оставляя какую-то смутную фантазию когда-нибудь, где-нибудь Вас увидеть. Хотя бы поскорее попасть на фронт и найти там «отдых»; кажется, первый раз в жизни я чувствую, что «устал», и хочется временами «отдохнуть» [Далее в отчеркнутом с двух сторон пространстве листа написано: все кажется уже потерявшим всякий смысл и значение.]
[Позднее 30 января 1918 г.]
[Датируется по предыдущему письму.]
«Dimera», которую я все время ожидал, привезла пренеприятный сюрприз — чуму. В результате карантин, дезинфек[ционные] работы, и отход отложен на десять суток. Другого парохода в Индию нет, несмотря на мою готовность идти хоть на грузовом пароходе. Подводная война сказывается на всем мире, и сообщения теперь невероятно длинные и трудные. Приходится сидеть в Шанхае и ждать, когда чума на «Dimera» будет искоренена. С какими только препятствиями не приходится встречаться в жизни. А я чувствую необходимость скорее попасть на фронт… и мое вынужденное бездействие — худшее, что может быть теперь. И вот я опять целыми днями один [Далее зачеркнуто: целыми днями сижу один, изучая буддийскую философию, Месопотамский театр и английскую службу Генерального штаба. В промежутках между этим занятием я отправляюсь куда-нибудь бродить по Шанхаю и думаю о милой, далекой Анне Васильевне. Вечером я сажусь около камина и разговариваю с Вашей фотографией.] Отсутствие сведений из России — Ваше письмо от 14 октября — последнее известие с Родины, из Севастополя письма я имею только от половины сентября — очень тяжело, — временами такая находит тоска, что положительно не можешь найти места. Это много даже для меня. От офицеров, уехавших с поручениями и письмами в Россию, нет также никаких известий. Нехорошие и невеселые мысли приходят в голову, и, чтобы отделаться от них, я обращаюсь к Вам.
Сегодня я целый день занимался изучением английских инструкций по полевой службе. Приходится привыкать к английской терминологии, хотя предмет для меня знакомый. Эти дни ожидания, когда утром ждешь вечера, а вечером думаешь, как бы скорее он кончился, надоели мне до невозможности (Далее зачеркнуто: Я начал позже вставать, чтобы сократить день.] Я живу, как уже писал, в Shanghai Club совершенно один, т[ак] к[ак] ни с кем не знакомлюсь и избегаю с кем-либо встречаться. Мои офицеры изредка заходят ко мне, но говорить нам решительно не о чем. Утром я занимаюсь Месопотамским театром, завтракаю и иду куда-нибудь на прогулку, возвращаюсь к себе и сажусь изучать английские regulations и instructions [уставы и инструкции (англ.)], после обеда я зажигаю камин, ставлю на стол Ваши фотографии и читаю что-либо по военной истории или буддийскую философию или хожу по комнате и думаю о Вас. Изредка этот режим нарушается каким-нибудь официальным приглашением к обеду или посещением стрелкового общества, где я занимаюсь стрельбой. Вот и все. Иногда по вечерам становится крайне тяжело, даже думы и воспоминания о Вас вызывают только чувство тревоги и горькое сознание своего бессилия что-либо не только сделать, но даже узнать, что делаете Вы, где Вы и как переживаете это время, которому нет имени. Приходится прибегать к одному средству — это привести себя в состояние отсутствия мыслей. Я выучился этому в Японии.
Оттуда я увез с собой два старинных сабельных клинка. Я, кажется, писал Вам о японских клинках. Японская сабля — это высокое художественное произведение, не уступающее шедеврам Дамаска и Индии. Вероятно, ни в одной стране холодное оружие не получило такого значения, как в Японии, где существовало и существует до сих пор то, что англичане называют cult of cold steel [культ холодной стали (англ.)]. Это действительно культ холодной стали, символизирующей душу воина, и воплощением этого культа является клинок, сваренный из мягкого сталеватого магнитного железа с лезвием поразительной по свойствам стали, принимающим остроту хирургического инструмента или бритвы. В этих клинках находится часть «живой души» воина, и они обладают свойством оказывать особое влияние на тех, кто относится к ним соответствующим образом. У меня есть два клинка: один начала XIV века, произведение одного из величайших мастеров Го-но-Иосихиро, другой конца XVII века работы Нагасоне Котейсу, одного из учеников величайшего художника Масамуне. Этот клинок принадлежал самураю Ямоно Хизахиде и был испытан согласно традициям школы Масамуне. Я не буду говорить Вам об этих традициях. Когда мне становится очень тяжело, я достаю этот клинок, сажусь к камину, выключаю освещение и при свете горящего угля смотрю на отражение пламени в его блестящей поверхности и тусклом матовом лезвии с характерной волнистой линией сварки стали и железа. Постепенно все забывается и успокаивается и наступает состояние точно полусна, и странные, непередаваемые образы, какие-то тени появляются, сменяются, исчезают на поверхности клинка, который точно оживает какой-то внутренней, в нем скрытой силой — быть может, действительно «частью живой души воина». Так незаметно проходит несколько часов, после чего остается только лечь спать.
Несколько дней тому назад после обеда я зашел в reading-room [читальный зал (англ.)] и, взяв первую попавшуюся книжку, сел у камина, намереваясь подумать о Вас. Но в этот вечер Вы почему-то были очень далеки от меня, и мысли о Вас вызывали только какое-то тревожное чувство боязни не то за Вас, не то за Ваше отношение ко мне, которое мне представлялось изменившимся после получения Вами известий о моей новой службе. Я раскрыл взятую книжку — это была одна из многочисленных брошюр, распространяемых английской и французской печатью, с описанием нарушений всех «божеских и человеческих» (интернациональных) законов, произведенных немецкими войсками при вторжении во Францию и особенно после вынужденного отступления. Длинный однообразный перечень разрушения, убийства, без различия пола и возраста, грабежей, насилий, планомерного истребления всего, что имело какую-либо ценность: истребление фруктовых садов, уничтожение сельскохозяйственных орудий, отравление колодцев, формальное осуществление рабства, грубое издевательство над честью, религией и историческими ценностями…
Все это изложено в тоне величайшего возмущения и негодования по адресу гуннов XX столетия, доходящего со стороны французов до явно выраженного чувства мести, способного проделать в Vaterland’e [Отечество (нем.)] все то, что его обитатели произвели на территории Belle France [Прекрасная Франция]. Я бросил брошюру и взял другую — эта оказалась еще хуже. Это было описание истребления армянского населения в Турции с упоминанием имен генералов Гольца13, Фалькенгайна14, Лимана15 и проч. Все это мне было уже давно известно, и я бросил и эту книжку и [Далее зачеркнуто: задумался о том странном противоречии, которое сквозит во всех этих произведениях.] стал просто смотреть на горящий в камине уголь, стараясь ни о чем не думать. Подошедший китайский «boy» [слуга (англ.)] передал мне визитную карточку. На ней с несколькими японскими иероглифами было по-английски отпечатано Yamono Konjuro Hisahide16 — менее всего я ожидал встретить этого полковника Генерального штаба в Shanghai — простившись с ним в Yokohama, я не думал о новой с ним встрече.
Но Вам ничего не говорит эта японская фамилия, поэтому позвольте представить Вам моего знакомого и сказать о нем несколько слов. Я считаю это знакомство одним из самых интересных, какие я имел в жизни, а мне доводилось все-таки довольно много иметь разных встреч и знакомств.
Когда я ожидал в Yokohama решения правительства Его Величества Короля Великобритании о моей службе, меня пригласил пообедать в Tokio Club один майор английской армии, возвращавшийся в Англию с Месопотамского фронта после тяжелой болезни, которая вывела его надолго из строя. После обеда мы перешли в кабинет покурить, и майор продолжил свой рассказ о Месопотамии, когда к нам подошел японский офицер и, поздоровавшись с англичанином, попросил представить его мне. Мы познакомились. Это был полковник Hisahide, недавно вернувшийся через Россию с Западного фронта, где он находился около года в английских и французских войсках в качестве военного атташе. Мне совершенно понятна была его роль на Западном фронте и даже не удивила его поездка через Скандинавию и Россию. Он был совершенно осведомлен обо мне, знал, что я только что вернулся из Америки, и я понял, что его интересует и почему он пожелал со мной познакомиться. Мы скоро обменялись визитами, и я пригласил его пообедать со мной.
Hisahide — это типичный представитель японского милитаризма. Я узнал о нем гораздо больше со стороны, чем, может быть, он сам этого желал. Это человек, для которого война является религией и основанием всей духовной жизни, всего миросозерцания. Он один из столпов Bushido — морального кодекса японских буси и самураев, последователь секты Zen, о которой я писал Вам как о секте воинствующего буддизма, практикующего Zo-Zen (сидеть по способу Zen) для сосредоточения своего мышления и воли над военными вопросами. Он один из признанных деятелей секретного панмонгольского общества, в программе которого говорится, что члены его, работающие для осуществления панмонгольских идеалов, должны быть связаны и проникнуты этим идеалом наподобие религиозной секты. Hisahide является фанатиком панмонгольского милитаризма, ставящего конечной целью ни более ни менее, выражаясь деликатней, экстерилизацию индоарийской расы, которая отжила свою мировую миссию и осуждена на исчезновение. Никто из японцев не говорит об этом, более того, на прямой вопрос вы всегда получите ответ, что никакого панмонголизма не существует, что это фантазии небольшой группы шовинистов, — но я утверждаю, что масса военных людей (а в Японии этот класс, помимо явно выраженного в военнослужащих, является самым многочисленным и политически сильным) если видит сны, то только на тему о панмонгольском мировом господстве, и старая легенда о Yoshitsune Minamoto в виде Джен-Чике и далее в образе Теммудзина Великого Хана Чингиза, может быть, никогда не имела так много сторонников, желающих ее повторения, как в эти дни.
Теперь Вам понятна фигура Yamono Hisahide, приехавшего неожиданно в Shanghai [Далее зачеркнуто: очевидно, не для свидания со мной и не для какого-либо развлечения.] Между мною и Hisahide установились отношения, которые, не имея ничего общего с дружбой или даже приязнью, возникают между людьми одних и тех же мыслей и взглядов, — это своего рода профессиональный интерес или симпатия, которую военный испытывает к военному, даже своему непосредственному врагу на поле сражения. Я помню, что мне было очень приятно встретиться с командиром японской батареи [после] двухмесячного взаимного искоренения, и его похвала моей работы была одним из самых приятных комплиментов, которые мне доводилось слышать. Hisahide после участия во взятии Цингтау, на чем закончилось активное участие японцев в настоящей войне, отправился в Европу изучать войну на европейских фронтах — он изучал ее как настоящий военный, участвуя во многих делах активно, живя все время в штабах и окопах передовой линии, делая наблюдения с привязных шаров и аэропланов. Его громадная военная эрудиция, осведомленность во всех военных вопросах, при отношении к войне как к религии, делали всякую беседу с ним полезной, много интересней лекций по военной схоластике, которые я слушал [Далее зачеркнуто: от профессоров] в двух военных академиях. Его интересовали некоторые вопросы нашей армии и флота, мои сведения об Америке — мы были интересны и полезны друг для друга.
В общем мы встречались раз пять за мое пребывание в Японии. Hisahide был искренно удивлен моими знаниями военной японской истории и моей осведомленностью по многим мало знакомым для европейцев вопросам японской жизни, имеющим отношение к войне. Я просто ответил ему на вопрос, почему меня так интересовала Япония, что я всегда считал Японию врагом своей страны, считаю и в будущем ее за такового же и естественно для военного интересоваться и изучать своего противника. Но особенно расположили его ко мне мои знания старинного японского культа «холодной стали» и этикета в обращении с оружием. Я попросил как-то показать мне клинок его сабли, он на мгновение задумался и, видимо, решил посмотреть, знаю ли я правила, как это надо делать. Он подал мне саблю, и я принял ее, как полагается в этом случае; я знал, что обнажить клинок более чем до половины без приглашения хозяина считается неприличным, а вынуть саблю совсем из ножен без просьбы владельца прямо недопустимо и проч[ие] мелочи, которые кажутся пустяками, но на которые японцы обращают большое внимание. Я был занят в это время поисками старинного японского клинка, в чем Hisahide оказал мне большую помощь. Вместе с ним я отправился в старинный музей Юшукун, где находится огромное собрание японского старинного оружия, и здесь на образцах величайших оружейных мастеров Японии и, надо думать, всего мира он показал мне характерные особенности и признаки клинков Масамуне, Мурамаса, Иосимитсу и проч[их] художников, основателей школ, давших величайшие произведения искусства — искусства, по убеждению японцев совершенно божественного происхождения. Благодаря его любезности мне удалось приобрести два клинка — один начала XIV столетия, работы одного из первоклассных 5 или 6 художников — Го-но-Иосихиро, другой — конца XVII века, работы Нагасоне Котейсу — одного из 10-ти учеников гениального Масамуне; этот клинок испытан согласно традициям школы Масамуне, но я не буду говорить Вам об этих традициях.
Вместе с Hisahide я посетил храм Ясукуни, посвященный душам павших воинов, и храм, где похоронены 47 ронинов, покончивших с собой по всем правилам «сеппуку» или «благополучного выхода» из затруднительного положения; последнее создалось потому, что они принесли голову одного из феодальных вельмож своего господина даймио Асано, мстя за его «благополучный выход», совершенный по вине этого вельможи. Эти 47 ронинов, своею жизнью подтвердивших высшую добродетель военного — лояльность и верность, — сделались национальными героями Японии, и их могилы служат предметом паломничества всех военных.
Кажется, я довольно ясно описал наши взаимоотношения, и личность Yamono Hisahide Вам, вероятно, достаточно понятна.
Совершенно неожиданно Hisahide появился в Shanghai и, зайдя в Shanghai Club, узнал о моем пребывании и решил навестить меня.
Из нескольких слов я понял, что он отправляется в Южный Китай по делам, связанным с происходящим там восстанием против существующего правительства Небесной Республики. Я не расспрашивал о его миссии, зная, что подобные вопросы не всегда бывают деликатны. Мы перешли в один из кабинетов, сели у камина и начали разговор, конечно, о войне. Hisahide первый его поднял, спросив у меня, прочел ли я только что появившееся в газетах мнение некоторых японских военных и политических деятелей о будущем мире и отношении к нему Японии. Я вынул записную книжку и (Далее зачеркнуто: молча] показал ее Hisahide — я вписал только что туда цитаты из сообщения по этому вопросу адмирала Kato, профессора университета в Токио Tange Tatebe и других японцев, высказавшихся, очевидно по благословению «генро» (тайного государственного совета), в прессе под заглавием «Militarism or liberalism after war» [«Милитаризм или либерализм после войны» (англ.)]. Эта статья была похожа на откровение; японцы молчали как рыбы и вдруг заговорили ясно, просто и понятно.
Hisahide был страшно доволен моим вниманием к этой статье.
«Я хочу поговорить с Вами по этому вопросу, — сказал Hisahide, — у нас с Вами общая точка зрения, мы понимаем друг друга. Вы выразитель того, что общие наши противники называют «милитаризмом». Мы с Вами знаем, что единственная форма государственного управления, отвечающая самому понятию о государстве, есть то, что принято называть милитаризмом [Далее зачеркнуто: Мы знаем, что дисциплина есть основание свободы, скажу более, что дисциплина, по существу, есть истинное выражение свободы.]. Ему противополагают понятия либерализма и демократии. Каково практическое значение этих понятий, мы видим на текущей войне. Весь западный мир с помощью Востока не может в течение ¾ лет справиться с Германией, имея численное и материальное превосходство по крайней мере в 5 раз над противником. Вы знаете, почему это, — сущность войны неизменна и проста, ее цель также совершенно определенна — чтобы вести успешно войну, надо прежде всего ее желать. Разве можно что-либо делать без желания? Конечно, можно, но как и какие результаты получатся при наличии соперничества со стороны того, кто желает. Говорить о материальном превосходстве и подготовке на четвертый год войны не приходится. Но «демократия» не желает войны, а милитаризм ее желает. Текущая война есть борьба демократического начала с милитаризмом [Далее зачеркнуто: также аристократическим началом.] В сущности, теперь уже для решения вопроса о значении того или другого начала неважно, кто окажется победителем и будет ли еще таковой даже при указанном отношении противников, как 1 к 5. Для нас все ясно, и мы высказались17. Вот смысл статьи «Militarism or liberalism after war».
Вы выписали цитату Zenjiro Horigoshi18 о «белой опасности» для нас, восточных народов. Автор видит ее в одичании и озверении народов Европы благодаря войне, в презрении, высказанном ими ко всем понятиям о человечности, справедливости и праве и [в] возможности агрессивных действий в этом смысле… Я не буду защищать Horigoshi; скажу более, я не вижу в этом одичании никакой опасности для нас лично, но я вижу ее в другом — это [в] моральном разложении, вызванном демократической идеологией, и связанными с ними учениями пасифизма, социализма и тесно связанного с ними интернационализма. Это, с нашей точки зрения, действительно «белая опасность» [Далее зачеркнуто: ибо наш желтый монгольский мир.], и мы примем меры для ее локализации и в случае надобности вступим с ней в борьбу и постараемся ее уничтожить. Вы удивляетесь моей откровенности — она просто проистекает из сознания нашей силы, нашего превосходства [Далее зачеркнуто’, над вашим бессилием — я не говорю о Вас лично, тем более о Вашей Родине, павшей жертвой того, с чем мы готовы вступить в борьбу.] — я говорю с Вами как представителем той расы, которая идет к гибели путем т[ак] наз[ываемой] «демократии».
Вы знакомы с целями и лозунгами, выставленными державами Согласия. О них достаточно много говорил Lloyd George19, а больше всего Wilson; последний каждую неделю повторяет скучнейшие положения для утешения демократии: война за демократию, даже для спасения демократии, война для самозащиты, война за право, за самоопределение народов, война против автократии, наконец, против милитаризма и война войне. Трудно представить себе что-либо более жалкое, чем это глупое демократическое ипокритство [греч. — лицемерие, притворство].
Конечно, Wilson и тем более английские государственные деятели понимают всю бессмыслицу этих целей и положений. Но они находятся под давлением «демократии», и последнюю надо убедить воевать хотя бы для собственного спасения, ей надо лгать, ибо в противном случае она пойдет за первым же германским агентом (как это сделала ваша демократия), который пообещает какую угодно ложь, которая демократии может нравиться. А воевать демократия решительно не хочет, и вот результат приложения демократического начала к войне с пятерным превосходством над противником, ведущим войну по правилам милитаризма. Сильнейшие державы, как Великобритания и Франция, задыхаются от усилий вести войну с врагом в лице среднеевропейского Германского союза, который численно и материально слабее их. Почему это? Англичане и французы имеют отличный, наилучшего состава корпус офицеров, войсковая масса в известной части у них настроена воинственно и отлично дерется, о материальной стороне и говорить нечего. Вам понятна причина… она лежит в демократическом начале. Войну ведут теперь не только армии, но все государства, а управляют ими люди совершенно не военные, принципиальные противники войны — как, напр[имер], социалисты. Вы понимаете, что я вовсе не имею в виду военный мундир, но государственный деятель во время войны должен быть военным по духу и направлению. Посмотрите на состав кабинетов европейских держав, про Америку я не говорю, ¾ лиц, в них участвующих, не только бесполезны, но прямо вредны для своей страны, ибо они участвуют в решениях, расходящихся со всей их идеологией и принципами. Эти лица вынуждены все время заигрывать с демократией, и вот в результате создается атмосфера величайшей лжи и ипокритства, выраженных в формуле «война — войне». Что такое демократия? — Это развращенная народная масса, желающая власти; власть не может принадлежать массам, большому числу в силу закона глупости числа: каждый практический политический деятель, если он не шарлатан и не мошенник, знает, что решение 2-х людей всегда хуже 1-го, 3-х хуже 2-х и т. д., наконец, уже 20-30 человек не могут вынести никаких разумных решений, кроме глупостей.
В мирное время последствия глупостей становятся очевидными и их исправляют, сменяя время от времени таких борцов и заменяя их новыми, но в военное время исправлять глупости очень трудно и они приводят к катастрофам, зачастую совсем непоправимым. Я говорил со многими французами и англичанами — среди них очень много почтенных воинов, — они все это понимают, но что делать — демократическое правительство боится больше всего превосходства военного командующего состава — мало-мальски способный генерал представляется уже опасным для депутатов демократии, его надо убрать, и только страх за неудачи и проигрыш кампании удерживает «демократию» от устранения всего талантливого командного состава. Простите, я обращусь к примеру, который дала ваша страна, — ваша демократия высказала откровенно все то, что западная демократия не высказывает, но в душе она думает так же. Она даже попробовала вести войну под высшим командованием присяжного поверенного и социалиста и кончила безграмотным прапорщиком, кажется, евреем. Демократия не выносит органически превосходства, ее идеал — равенство тупого идиота с образованным развитым человеком. Но воевать идиоты не могут, и в этом вся их трагедия, и они инстинктивно понимают свое бессилие в войне, ненавидят ее и объявляют ей… войну. «Демократическая война» — войне, с идеалом вечного мира, разоружения и интернационального трибунала… Мы откровенно говорим европейской демократии: попробуйте, разоружитесь, мы только будем благодарны вам за это, так как это поможет нам осуществить свои задачи с большей легкостью, но, если вы попробуете привлечь нас к этой глупости, вы встретитесь с нашей армией и флотом, истинным выразителем всей нашей нации, которая не захочет присоединиться к вам, но если вы попробуете бороться с нами приемами, которыми Германия победила Россию и обратила Великую Державу в конгломерат одичавших «демократий», — мы вас уничтожим.
«Белая опасность» нам не страшна — она только ведет к гибели Европу и Америку, лишая ее способности к войне, способности к победе. Англия и Франция еще сильны своей аристократией, своим воинственным началом, инстинктивно заложенным в ее населении, которое никакой демократический разврат в виде пасифизма и социализма не смог уничтожить, — но работа этих факторов ведет их к проигрышу войны и конечной гибели, — если только не случится того, что европейские народы поймут, к чему они идут, и справятся с эпидемией моральной чумы, которой они заразились.
После окончания Европейской войны, а мы будем терпеливо ждать этого конца, правительства под давлением демократии вынуждены будут выдвинуть вопрос о разоружении или ограничении вооружений даже против своего желания и здравого смысла. Ведь правительства открыто говорят, что они ведут войну для сокрушения милитаризма, а именно прусского милитаризма. Допустим, что этот милитаризм будет побежден и вожди демократий, как таковые люди не военные и ненавидящие войну, может быть и социалисты, заговорят о разоружении. Мы будем присутствовать на этой болтовне и выслушаем ее до конца, и мы оставим за собой последнее слово, и это слово будет — «нет», — а если вы не согласны с нами, тогда — война. Я посмотрю, как демократии Запада начнут новую войну против японского милитаризма, новую мировую войну. Но она будет, ибо мы ее хотим, и наш первый удар будет Вы знаете куда направлен.
Если Европейская война не покончит с демократией, то следующая погребет демократию с социализмом, пасифизмом и прочими моральными извращениями навсегда, но это будет стоить белой расе дорого».
Hisahide замолчал — мне нечего было возразить ему.
«Европейские демагоги и демократы думают, что и у нас социализм заразит народную массу, — это не случится; мы, военный класс, мы, потомки буси и самураев, этого не допустим. Мы задушим социализм войной и истребим при ее помощи все те элементы, которые окажутся зараженными. До сих пор мы просто рубим головы разносителям заразы и дезинфицируем таким образом очаги этой моральной чумы. Народы Востока переживали не раз эти эпидемии, у нас она была, и довольно серьезная, в период Асикага в XV столетии, мы с ней справились — и, как Вы знаете, весьма радикально. С другой стороны, мы никогда не допустим развития капитализма в той форме, какую этот строй производства получил хотя бы в демократических Соединенных Штатах. Мы не допустим плутократии и капиталу вмешиваться в государственное управление. С этим явлением мы боремся также, ибо понимаем, что банкир или фабрикант не может управлять государством и, получив власть, приведет неизбежно его к социальной заразе, упадку и даже гибели. Военная доктрина шире и глубже всякой другой системы, скажу более, она охватывает эти системы, в ней лежит и истинная свобода, и реальное благо, и счастье народов».
Hisahide окончил и встал. «Я рано утром завтра уеду, — сказал он. — Вы через несколько дней отправитесь в Месопотамию — встретимся ли мы с Вами когда-нибудь, не знаю, но будете ли врагом или другом, я буду рад этой встрече. Но если Вы останетесь живы, вспомните, что через три года, вероятно, в начале 1921 года, произойдут события, по отношению к которым эта война явится только прелюдией».
Мы простились, и Hisahide ушел.
Я поднялся в свою комнату; на столе, покрытом картой Месопотамского театра, стоял Ваш портрет, и я стал смотреть на него, чтобы отвлечься от тяжкостной справедливости слов японского фанатика. Милый, бесконечно дорогой образ Анны Васильевны показался мне таким далеким, отделенным какой-то стеной от меня [Далее зачеркнуто: мечтой без цели и надежды, что], я отошел от стола с чувством последней безнадежности и задумался над странным появлением Yamono Hisahide и его словами. С каким презрением, ненавистью и злорадством говорил этот японец, но как счастлив он в душе, сознавая себя победителем и готовясь с верой фанатика к новой победе. Он в Японскую войну истреблял в армии генерала Оку в Маньчжурских боях уже тогда начавшие разлагаться наши войска, с бездарным командованием, с ослабленной дисциплиной, развращаемые антигосударственной пропагандой, с плохими офицерами. После победоносной войны он служил под командой Хасегавы20, подавившего с чисто азиатской последовательностью восстание в Корее, затем взятие Цингтау и изучение войны и военного положения на английском и французском фронте, возвращение через разбитую, побежденную и развалившуюся Россию… С каким удовольствием смотрел он на своего бывшего врага, на товарищей, трусов, преступников и предателей, называвших себя «революционной демократией». Когда-то страшный враг превратился в посмешище и презрение всего мира. Быть русским… быть соотечественником Керенского [Далее зачеркнуто: Троцкого21], Некрасова22, Ленина, Дыбенко23 и Крыленко24 [В тексте: Дыбенки и Крыленки]… ведь весь мир смотрит именно так; ведь Иуда Искариот на целые столетия символизировал евреев, а какую коллекцию подобных индивидуумов дала наша демократия, наш «народ-богоносец»…
Но ведь это результат проигранной войны… Войну можно проиграть, как во время войны можно проиграть сражение, но тогда есть одна военная формула, высказанная, кажется, Массена Наполеону: «Oui, la fatalité est perdue, mais nous avons heures pour gagner l’outre» [«Да, судьба проиграна, но мы имеем время выиграть другую» (фр.)]. Да, война проиграна, но мы имеем несколько лет, чтобы начать и выиграть новую.
13 лет тому назад мы проиграли войну. Сказали ли мы эту фразу и сделали ли что-нибудь в ее духе? Кто ответственен за это… правительство? Да, не оно только… Ответственность за это несут прежде всего военные России, главным образом офицерство. После прелюдии 1905, 1906 гг. было ясно, что спасение России лежит в победоносной войне, но кто ее хотел — офицерство? — Нет, войны хотели немногие отдельные лица, которые готовились к ней, как к цели и смыслу своей деятельности и жизни. Они точно указали на время начала войны, и десятилетний период мира был достаточен для всесторонней к ней подготовки. Наши враги были откровенны, но что мы сделали для войны? Наше офицерство было демократизировано и не имело подобия и тени военного сословия, воинственности, склонности и любви к войне, что совершенно необходимо. Оно было не дисциплинированно и совершенно не воинственно. У нас было 3000 генералов против 800 французских, но что это были за фигуры! Что общего имели с высшим командованием эти типичные мирные буржуа, заседавшие в канцеляриях, гражданских ведомствах и управлениях, носившие военную форму и сабли с тупыми золингеновскими клинками. Или офицерская молодежь последнего времени из нашей «интеллигенции», без тени военного воспитания, без знаний, физически никуда не годная, думавшая только, как бы устроиться поудобней и поспокойней в 20 лет… У нас были офицеры преимущественно в гвардейских полках, в Генеральном штабе, но их было мало и численно не хватило на такую войну; два с ХА года они спасали Родину, отдавая ей свою жизнь, а на смену им пришел новый тип офицера «военного времени» — это уже был сплошной ужас. Разве дисциплина могла существовать в такой среде, с такими руководителями — но без дисциплины нет прежде всего смелости участвовать в войне, не говоря уже о храбрости. Без дисциплины человек прежде всего трус и неспособен к войне — вот в чем сущность [Сначала было: Недисциплинированный человек прежде всего трус, и последний всегда недисциплинарен и неспособен к войне — вот в чем секрет.] нашей проигранной войны. Надо открыто признать, что мы войну проиграли благодаря стихийной трусости чисто животного свойства [Сначала было: малодушия], охватившей массы, которые с первого дня революции освободились от дисциплины и провозгласили трусость истинно революционной добродетелью. Будем называть вещи своими именами, как это ни тяжело для нашего отечества: ведь в основе гуманности, пасифизма, братства рас лежит простейшая животная трусость, страх боли, страдания и смерти. Почтеннейший Керенский называл братающихся с немцами товарищей идеалистами и энтузиастами интернационального братства, а я, возражая ему, просто называл это явление проявлением самой низкой животной трусости. «Товарищ» — это синоним труса прежде всего, и армия, обратившись в товарищей, разбежалась или демократически «демобилизировалась», не желая воевать с крестьянами и рабочими, как сказал Троцкий и Крыленко.
И вот наряду с этой гнусной фигурой товарища, «разделяющего положение Кинталя и Циммервальда», но не умеющего даже говорить членораздельно и издающего бессмысленные звуки вроде «интернационала», вырисовывается другая фигура, так знакомая по Дальнему Востоку.
Мне особенно запомнилось скульптурное изображение одного из 47 ронинов. При всей наивности техники художник создал произведение, которое оставляет глубочайшее впечатление. Это фигура самурая XVIII века, вынимающего из ножен саблю. Художник передал с необыкновенной реальностью экспрессию ненависти, презрения и самоуверенного надменного спокойствия в монгольской физиономии и всей фигуре самурая, как бы задумавшегося, стоит ли вынуть саблю и не нарушит ли этот акт правило, запрещающее воину пользоваться саблей против нечистых животных. Такое же выражение имела и фигура Yamono Hisahide, когда он говорил о демократическом начале и социализме… И вот так и теперь этот проникнутый военной идеей до фанатизма монголо-малаец смотрит на нашего «революционного демократа» или товарища… он еще не вынул сабли и думает, можно ли применить к этой гадости клинок, в котором ведь заключена «часть живой души воина»… И если все останется так, как есть, то вынимать сабли ему не придется — он просто поставит на грязную демократическую лужу свой тяжелый окованный солдатский башмак, и лужа брызгами разлетится в стороны и немедленно высохнет под лучами «восходящего солнца» без всякого следа.
Но «война проиграна — еще есть время выиграть новую», и будем верить, что в новой войне Россия возродится. «Революционная демократия» захлебнется в собственной грязи, или ее утопят в ее же крови. Другой будущности у нее нет. Нет возрождения нации помимо войны, и оно мыслимо только через войну. Будем ждать новой войны как единственного светлого будущего, а пока надо окончить настоящую, после чего приняться за подготовку к новой. Если это не случится, тогда придется признать, что смертный приговор этой войной нам подписан.
Я долго не спал в эту ночь; я достал клинок Котейсу и долго смотрел на него, сидя в полутемноте у потухающего камина; постепенно все забылось и успокоилось; слабый свет потухающих углей отразился на блестящей полосе клинка, и в тусклом матовом лезвии с характерной волнистой линией сварки стали и железа клинок точно ожил какой[-то] внутренней, в нем скрытой жизнью, на его поверхности появились какие-то тени, какие-то образы, непрерывно сменяющиеся друг другом, точно струящиеся полосы дыма или тумана… Странные иногда происходят явления.
Утром я спустился прочесть новые газеты. Я развернул «Shanghai Times», и первое, что мне попалось на глаза, — это была короткая заметка, озаглавленная «New War» [«Новая война» (англ.)]. Это был перевод предсказания одного японского священника (или жреца, если хотите) шинтоистского храма Mitone в Musachi по имени Seihachi Kamoshito.
Позвольте привести это предсказание по-английски, не переводя его на русский язык [Упоминаемый текст отсутствует.].
Как Вам нравится предсказание Kamoshito [Далее зачеркнуто: Он не говорит ни слова про три великие державы, с которыми будет бороться Япония, но представляю Вам догадываться, какие это могут быть державы.] Но довольно военной политики и милитаризма — я хочу сказать немного и про себя. Kamoshito предсказывает март 1919 г. как окончание войны — я буду надеяться, что не позже мая 1919-го я смогу Вас увидеть. Но если война затянется еще на год, то, вероятно, придется мне ждать 1920 г. Конечно, все это предположительно, что в 1919 и 1920 гг. я вообще буду иметь возможность какой-либо встречи. Наконец, захотите ли Вы ее — это тоже такой же вопрос. В конце концов будет так, как решит война, и ни я, ни даже Вы ничего с ней не поделаете. Для меня это так ясно, что я только могу надеяться, что война, которой я так предан, будет ко мне со временем настолько милостива, что позволит Вас встретить и увидеть, — я постараюсь служить ей как смогу лучше, чтобы получить ее благосклонное отношение и милостивое снисхождение к моему желанию целовать ручки Ваши. Вы знаете, что она совершенно непостижима и понять ее действия совершенно невозможно, и они не всегда согласуются с нашей логикой и намерениями. Иногда за ненужный пустяк она дает все, что только можно желать, иногда за подвиг — вычеркивает из списка… Она как-то сказала по-немецки со сквернейшим прусским акцентом: «nicht resonieren» [не резонерствовать (нем.)], а потом выпустила Клаузевица, написавшего, прости Господи, «Vom Kriege» [«О войне» (нем.)] с необыкновенно проникновенной главой об Uberhohe [сверхвысота, крайняя высота], с помощью которой Hindenburg ликвидировал Россию путем социализма. Но я пишу вздор. Не сердитесь, милая, обожаемая моя Анна Васильевна.
Она пришла ко мне совершенно неожиданно в один из вечеров, когда я сидел над картами военных театров, рассматривая последнюю «операцию» или, вернее, генерала Макензена в Прибалтийском крае — это было очень много, больше даже, чем я мог себе представить, и я был близок к потере всякой веры, всякой надежды на какое-либо будущее… И она пришла ко мне [Этот абзац отделен от основного текста письма чертой.].
Singapore 16.III.1918 г.
Милая, бесконечно дорогая, обожаемая моя
Анна Васильевна,
Пишу Вам из Singapore, где я оказался неисповедимой судьбой в совершенно новом и неожиданном положении. Прибыв на «Dimera», которую я ждал в Shanghai около месяца, я был встречен весьма торжественно командующим местными войсками генералом Ridaud, передавшим мне служебный пакет «On His Majesty’s Servis» [«На службе Его Величества» (англ.)] с распоряжением английского правительства вернуться немедленно в Китай для работы в Маньчжурии и Сибири. Английское правительство после последних событий, выразившихся в полном разгроме России Германией, нашло, что меня необходимо использовать в Сибири в видах Союзников и России предпочтительно перед Месопотамией, где обстановка изменилась, по-видимому, в довольно безнадежном направлении. И вот я со своими офицерами оставил «Dimera», перебрался в «Hotel de l’Europe» и жду первого парохода, чтобы ехать обратно в Shanghai и оттуда в Пекин, где я имею получить инструкции и информации от союзных посольств. Моя миссия является секретной, и хотя я догадываюсь о ее задачах и целях, но пока не буду говорить о ней до прибытия в Пекин.
Милая моя Анна Васильевна, Вы знаете и понимаете, как это все тяжело, какие нервы надо иметь, чтобы переживать это время, это восьмимесячное передвижение по всему земному шару…
Не знаю, я сам удивляюсь своему спокойствию, с каким встречаю сюрпризы судьбы, меняющие внезапно все намерения, решения и цели… Я почти успокоился, отправляясь на Месопотамский фронт, на который смотрел почти как на место отдыха… Кажется, странное представление об отдыхе, но и этого мне не суждено, но только бы кончилось это ужасное скитание, ожидание, ожидание, которое способно привести в состояние невменяемости любого Бога… Это время было для меня временем величайшего страдания, которое я когда-либо испытывал, кончится ли оно когда-нибудь…
Вы, милая, обожаемая Анна Васильевна, так далеки от меня, что иногда представляетесь мне каким-то странным сном. Разве не сон воспоминания о Вас в той обстановке, где я теперь нахожусь; на веранде экзотического английского отеля в жаркую тропическую ночь в атмосфере какого-то парника, в совершенно чуждом и совершенно ненужном для меня городе — я сижу перед Вашим портретом и пишу Вам эти листки, не зная, попадут ли они когда-нибудь в Ваши ручки.
Даже звезды, на которые я всегда смотрел, думая о Вас, здесь чужие; Южный Крест, нелепый Скорпион, Центавр, Арго с Канопусом — все это чужое, невидимое для Вас, и только низко стоящая на севере Большая Медведица и Орион напоминают мне Вас; может быть, Вы иногда смотрите на них и вспоминаете Вашу химеру, действительно заслуживающую одним последним периодом своей жизни это нелепой фантазии.
Харбин 29 апреля 1918 г.
Дорогая, милая, обожаемая Анна Васильевна.
Сегодня получил письмо Ваше от 20 апреля. У меня нет слов, нет умения ответить Вам; менее всего я мог предполагать, что Вы на Востоке, так близко от меня. Получив письмо Ваше, я прочел Ваше местопребывание и отложил письмо на несколько часов, не имея решимости его прочесть. Несколько раз я брал письмо в руки и у меня не хватало сил начать его читать. Что это, сон или одно из тех странных явлений, которыми дарила меня судьба. Ведь это ответ на мои фантастические мечтания о Вас — мне делается почти страшно, когда я вспоминаю последние. Анна Васильевна, правда ли это или я, право, не уверен, существует ли оно в действительности или мне только так кажется.
Ведь с прошлого июля я жил Вами, если только это выражение отвечает понятию думать, вспоминать и мечтать о Вас, и только о Вас [Далее зачеркнуто: Я посылаю Вам небольшую сумму, зная, что Вам трудно жить, и если Вы не захотите прийти ко мне, то примите ее для своих личных нужд. Письмо написано на обороте листа с воззванием А. В. Колчака «Сербские воины».].
КОММЕНТАРИИ
Фрагменты из писем А. В. Колчака А. В. Тимирёвой печатаются по: ГА РФ. Ф. Р-5844. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 33-112 об. Там же. Д. 4. Л. 1-2 об. Там же. Д. 9. Л. 1-2. Там же. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 52а, ч. II. Л. 1-6 об.
1 Имеется в виду В. В. Романов.
2 Макдональд Рамсей (1866-1937) — английский политический и государственный деятель. Депутат британского парламента от Лейбористской партии с 1906 г. Премьер-министр Великобритании в 1924 и 1929–1935 гг. Интересно, что именно в то время, о котором пишет в письме Колчак, Макдональд находился в самой низшей точке своей популярности — он даже не был переизбран в парламент на выборах 1918 г. Лидером Лейбористской партии он тоже не был — в 1914–1922 гг. этот пост занимал Артур Хендерсон. Мрачные пророчества адмирал делал явно под влиянием внешних ассоциаций с революционной Россией.
3 Пени Годфри (1871-1932) — английский морской офицер, контр-адмирал. Участник Первой мировой войны. С образованием в 1915 г. Королевской авиации военно-морских сил произведен в коммодоры и назначен начальником ее тренировочного центра в Крэнвелле. В 1917 г. произведен в контр-адмиралы и назначен 5-м лордом Адмиралтейства и начальником Морской авиации. Уволен в отставку в 1920 г.
4 Дыбовский Виктор Владимирович (1884-1953) — морской офицер. Участник Русско-японской войны и Цусимского сражения. После войны получил образование военного летчика, совершил несколько сверхдальних перелетов. Участник Первой мировой войны. В 1915 г. назначен начальником Отдела приемки авиационного имущества в Русском закупочном комитете в Лондоне. Последний чин в императорском флоте — капитан 2 ранга (почему Колчак именует его то лейтенантом, то капитаном 2 ранга, неизвестно). После прихода к власти большевиков отказался возвращаться в Россию. Работал в Англии авиаконструктором. Умер в Лондоне.
5 Шульц Густав Константинович фон (1871-1946) — морской офицер. Служил на Балтике. Участник Первой мировой войны. С 1915 г. официальный представитель Главного морского штаба России при Военно-Морском Флоте Великобритании. Последний чин в императорском флоте — капитан 1 ранга. По окончании войны уехал в Финляндию. В 1923–1926 гг. был командующим финским флотом. Умер в Германии.
6 Колчак здесь точно указывает некоторые подробности Ютландского боя — крупнейшего морского сражения Первой мировой войны между английским и немецким флотами 31 мая — 2 июня 1916 г. Судя по всему, их ему сообщил фон Шульц, бывший наблюдателем от русского флота на английских кораблях.
7 Имеются в виду эскадренные миноносцы.
8 Имеется в виду дзен-буддизм.
9 Имеется в виду Сунь Цзы — китайский философ и военный теоретик VI–V вв. до н. э.
10 Как видно из этого пространного письма, Колчак весьма глубоко погрузился в изучение буддизма, что выглядит несколько удивительно на фоне приводившихся выше упреков в отсутствии у него усидчивости и систематичности.
11 Мезенцев Анатолий Михайлович (1886-1931) — морской офицер. Участник Первой мировой войны. Служил на Черном море. Последний чин в императорском флоте — старший лейтенант. В 1917 г. включен в состав миссии Колчака в США. Участник Гражданской войны и Белого движения на Юге России. В 1920 г. эмигрировал. Жил в Турции, затем в США. Умер в Нью-Йорке.
12 Макензен Август (1849-1945) — немецкий генерал-фельдмаршал. Участник Первой мировой войны. Командовал 9-й и 11-й армиями, группами армий на Сербском и Румынском фронтах. В 1920 г. вышел в отставку. Умер в Саксонии.
13 Гольц Рюдигер фон дер (1865-1946) — немецкий генерал. Участник Первой мировой войны. Командовал немецкими войсками в Прибалтике и Финляндии. Автор мемуаров. Умер в Баварии.
14 Фалъкенгайн Эрих (1861-1922) — немецкий генерал. Участник Первой мировой войны. В 1914–1916 гг. начальник Генерального штаба немецкой армии. Далее командовал 9-й и 10-й армиями. В 1919 г. вышел в отставку. Умер в Потсдаме.
15 Лиман фон Сандерс (1855-1929) — немецкий генерал. Участник Первой мировой войны. В 1914–1918 гг. главный военный советник турецкой армии. В 1919 г. вышел в отставку. Автор мемуаров. Умер в Баварии.
16 Хисахиде Ямоно — полковник японской армии. Участник Первой мировой войны. Был наблюдателем и военным представителем Японии при армиях Антанты.
17 Судя по тому, сколь подробно Колчак излагает точку зрения японского полковника на суть и природу войны, он ее совершенно разделяет. Глубинный милитаризм был для Колчака важнейшим движущим фактором и мотивом его деятельности.
18 Хоригоси Дзендзиро (правильно — Хорикоси) — японский политический деятель, экономист. Автор научных работ и популярных статей, отстаивающих необходимость проведения Японией экспансионистской политики.
19 Ллойд Джордж Дэвид (1863-1945) — английский политический и государственный деятель. С 1890 г. депутат британского парламента от Либеральной партии. Премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг.
20 Хасегава Есимити (1850-1924) — японский военный деятель, маршал. В 1912–1916 гг. начальник Генерального штаба Японии. В 1916–1919 гг. генерал-губернатор Кореи.
21 Троцкий Лев Давидович (1879-1940) — советский партийный и государственный деятель. В 1918–1924 гг. председатель Реввоенсовета. В 1929 г. выслан из СССР. Убит в Мексике агентом советских спецслужб.
22 Некрасов Николай Виссарионович (1879-1940) — российский политический деятель. Член партии кадетов. Депутат III и IV Государственных дум. Активный участник Февральской революции 1917 г. В марте–июле 1917 г. министр путей сообщения во Временном правительстве. В советское время работал инженером на строительстве различных гидротехнических сооружений. В 1940 г. репрессирован, расстрелян. В 1991 г. реабилитирован.
В чем провинился Некрасов перед Колчаком, что тот поместил его в компанию откровенно антипатичных ему большевиков, неизвестно.
23 Дыбенко Павел Ефимович (1889—1938) — советский военный и политический деятель. После прихода большевиков к власти — народный комиссар по морским делам. Участник Гражданской войны. После ее окончания занимал различные командные должности в Красной армии. В 1938 г. репрессирован, расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.
24 Крыленко Николай Васильевич (1885-1938) — советский партийный и государственный деятель. Участник революций 1905—1907 и 1917 гг. Участник Первой мировой войны. Последний чин в императорской армии — прапорщик. В нояб. 1917 — марте 1918 гг. главнокомандующий российской армией. Далее занимал посты в органах суда и прокуратуры советского государства. В 1936–1938 гг. нарком юстиции СССР. В 1938 г. репрессирован, расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.
Переписка Колчака и Тимиревой
Полвека не могу принять,
Ничем нельзя помочь,
И все уходишь ты опять
В ту роковую ночь.
А я осуждена идти,
Пока не минет срок,
И перепутаны пути
Исхоженных дорог.
Но если я еще жива,
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе.
Анна Тимирева
Прошло два месяца, как я уехал от Вас, моя бесконечно дорогая, и так [еще] жива передо мной картина нашей встречи, так же мучительно и больно, как будто это было вчера, на душе… без Вас моя жизнь не имеет ни того смысла, ни той цели, ни той радости. Вы были для меня в жизни больше, чем сама жизнь, и продолжать ее без Вас мне невозможно.
Александр Колчак, лето 1916
…В минуту усталости или слабости моральной, когда сомнение переходит в безнадежность, когда решимость сменяется колебанием, когда уверенность в себе теряется и создается тревожное ощущение несостоятельности, когда все прошлое кажется не имеющим никакого значения, а будущее представляется совершенно бессмысленным и бесцельным, в такие минуты я прежде всегда обращался к мыслям о Вас, находя в них и во всем, что связывалось с Вами, с воспоминаниями о Вас, средство преодолеть это состояние.
Александр Колчак, 9 мая 1917 г.
Только о Вас, Анна Васильевна, мое божество, мое счастье, моя бесконечно дорогая и любимая, я хочу думать о Вас, как это делал каждую минуту своего командования. Я не знаю, что будет через час, но я буду, пока существую, думать о моей звезде, о луче света и тепла — о Вас, Анна Васильевна. Как хотел бы я увидеть Вас еще раз, поцеловать ручки Ваши.
Александр Колчак, [6 июня 1917 г.]
Для меня нет другой радости, как думать о Вас, вспоминать редкие встречи с Вами, смотреть на Ваши фотографии и мечтать о том неизвестном времени и обстановке, когда я Вас снова увижу. Это единственное доказательство, что надежда на мое счастье существует… Когда-нибудь я получу от Вас несколько слов, которые так бесконечно для меня дороги, как все, что связано с Вами.
Александр Колчак, 8/21 августа
Моя милая, дорогая, обожаемая Анна Васильевна.
Господи, как Вы прелестны на Ваших маленьких изображениях, стоящих передо мною теперь. Последняя фотография Ваша так хорошо передает Вашу милую незабываемую улыбку, с которой у меня соединяется представление о высшем счастье, которое может дать жизнь, о счастье, которое может явиться наградой только за великие подвиги. Как далек я от них, как ничтожно кажется все сделанное мною перед этим счастьем, перед этой наградой…
Александр Колчак, [август 1917 г.]
Дорогая, милая, обожаемая Анна Васильевна.
…У меня нет слов, нет умения ответить Вам; менее всего я мог предполагать, что Вы… так близко от меня. Получив письмо Ваше, я… отложил его на несколько часов, не имея решимости его прочесть. Несколько раз я брал письмо в руки и у меня не хватало сил начать его читать. Что это, сон или одно из тех странных явлений, которыми дарила меня судьба. Ведь это ответ на мои фантастические мечтания о Вас — мне делается почти страшно, когда я вспоминаю последние. Анна Васильевна, правда ли это или я, право, не уверен, существует ли оно в действительности или мне только так кажется.
Александр Колчак, 29 апреля 1918 г.
Милый Александр Васильевич, далекая любовь моя… Я думаю о Вас все время, как всегда, друг мой, Александр Васильевич, и в тысячный раз после Вашего отъезда благодарю Бога, что Он не допустил Вас быть ни невольным попустителем, ни благородным и пассивным свидетелем совершающегося гибельного позора. Я так часто и сильно скучаю без Вас, без Ваших писем, без ласки Ваших слов, без улыбки моей безмерно дорогой химеры.
Анна Тимирева, 7 марта 1918 г.
… Где Вы, радость моя, Александр Васильевич? На душе темно и тревожно. Я редко беспокоюсь о ком-нибудь, но сейчас я точно боюсь и за Вас, и за всех, кто мне дорог… Господи, когда я увижу Вас, милый, дорогой, любимый мой Александр Васильевич. Да хранит Вас Господь, друг мой дорогой, и пусть Он поможет Вам в Ваши тяжкие дни. До свидания — если бы поскорей.
Анна Тимирева, 21 марта 1918 года
…Милый Александр Васильевич, я буду очень ждать, когда Вы напишете мне, что можно ехать, надеюсь, что это будет скоро. А пока до свиданья, милый, будьте здоровы, не забывайте меня и не грустите и не впадайте в слишком большую мрачность от окружающей мерзости. Пусть Господь Вас хранит и будет с Вами. Я не умею целовать Вас в письме.
Анна Тимирева, 17 сентября 1918 г.
Но я же живая и совсем не умею жить, когда кругом одно сплошное и непроглядное уныние. И потому, голубчик мой, родной Александр Васильевич, я очень жду Вас, и Вы приезжайте скорее и будьте таким милым, как Вы умеете быть, когда захотите, и каким я Вас люблю.
Анна Тимирева, 14 февраля 1918 г.
Письмо Анны Васильевны Тимиревой к Александру Васильевичу Колчаку.
Насколько мне известно из книг, писем сохранилось только восемь.
Петроград 20 октября 1916 г.
Дорогой Александр Васильевич, сегодня получила письмо Ваше от 17-го. С большой печалью я прочитала его, мне тяжело и больно видеть Ваше душевное состояние, даже почерк у Вас совсем изменился. Что мне сказать Вам, милый, бедный друг мой, Александр Васильевич. Мне очень горько, что я совершенно бессильна сколько-нибудь помочь Вам, когда Вам так трудно, хоть как-нибудь облегчить Ваше тяжелое горе. Вы пишете о том, что Ваше несчастье должно возбуждать что-то вроде презрения, почему, я не понимаю. Кроме самого нежного участия, самого глубокого сострадания, я ничего не нахожу в своем сердце. Кто это сказал, что женское сострадание не идет сверху вниз? — Ведь это правда, Александр Васильевич. Какую же вину передо мной Вы можете чувствовать? Кроме ласки, внимания и радости, я никогда ничего не видела от Вас, милый Александр Васильевич; неужели же правда Вы считаете меня настолько бессердечной, чтобы я была в состоянии отвернуться от самого дорогого моего друга только потому, что на его долю выпало большое несчастье? Оттого что Вы страдаете, Вы не стали ни на йоту меньше дороги для меня, Александр Васильевич, — напротив, может быть. Вы говорите, что старались не думать обо мне все это время, но я думаю о Вас по-прежнему, где бы и с кем я ни была. Впрочем, я мало кого вижу, т[ак] к[ак] избегаю бывать где бы то ни было, чтобы не слышать всевозможных нелепых слухов и сплетен, которыми город кишит. Но совершенно уйти от них трудно, т[ак] к[ак] у моей тети1 все-таки кое-кто бывает и всякий с азартом хочет рассказать свое, ну да Бог с ними. Вечерами сижу дома, днем без конца хожу пешком куда глаза глядят, одна по дождю и морозу и думаю, думаю о Вас без конца. Вы говорите о своем личном горе от потери «Марии», я понимаю, что корабль можно любить как человека, больше, может быть, даже, что потерять его безмерно тяжело, и не буду говорить Вам никаких ненужных утешений по этому поводу. Но этот пусть самый дорогой и любимый корабль у Вас не единственный, и если Вы, утратив его, потеряли большую силу, то тем больше силы понадобится Вам лично, чтобы с меньшими средствами господствовать над морем. На Вас надежда многих, Вы не забывайте этого, Александр Васильевич, милый. Я знаю, что все это легко говорить и бесконечно трудно пересилить свое горе и бодро смотреть вперед, но Вы это можете, Александр Васильевич, я верю в это, или совсем не знаю Вас. Вы пишете, что Вам хотелось когда-нибудь увидеть меня на палубе «Марии», сколько раз я сама думала об этом, но если этому не суждено было быть, то я все-таки надеюсь встретиться с Вами когда-нибудь, для встречи у нас остался еще весь Божий мир, и, где бы это ни было, я увижу Вас с такой же глубокой радостью, как и всегда. И мне хочется думать, что эти ужасные дни пройдут, пройдет первая острая боль утраты и я снова увижу Вас таким, каким знаю и привыкла представлять себе. Ведь это будет так, Александр Васильевич, милый?.. Где-то Вы сейчас, что делаете, что думаете, Александр Васильевич. Я бы хотела думать, что хоть немного отлегло у Вас от сердца. Уж очень поздно, четвертый час и пора спать давно. До свидания пока, Александр Васильевич, мой друг, да хранит Вас Господь, да пошлет Вам утешение и мир душевный; я же могу только молиться за Вас — и молюсь. Анна Тимирева
Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…
Книпер Анна Васильевна (Тимирёва)
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» / сост.: Т. Ф. Павлова, Ф. Ф. Перчёнок, И. К. Сафонов; вступ. ст. Ф. Ф. Перчёнка. — М. : Прогресс: Традиция: Рус. путь, 1996. — 570 с. — В содерж.: Книпер А. В. Фрагменты воспоминаний: с. 47-136; Переписка А. В. Колчака и А. В. Тимиревой: с. 137-380.
В тонких тетрадях и на отдельных листках все это было написано именно в виде фрагментов. Ни общего заглавия, ни заголовков крупных блоков (исключение — «Воспоминания о Екатерине Павловне Пешковой»), Несколько названий небольших кусков: «Из рассказов Екатерины Павловны», «Еда в Кисловодске», «О стоическом воспитании», «О воспитании вообще», «Рассказ о щелковских казачках», «О бабушке». Под последним заголовком — тринадцать крошечных записей, сделанных в том порядке, как они приходили на ум. Самые крупные цельные два куска связаны с A.В. Колчаком, каждый из них явно написан на одном дыхании. О Е. Л. Пешковой — два сходных параллельных текста, не вполне перекрывающих друг друга.
При подготовке первой публикации («Минувшее. Исторический альманах», т. 1. Париж, Atheneum, 1986) удалось расположить записки Анны Васильевны так, что образовался единый текст, причем редактирование свелось к минимальному изменению отдельных слов «на стыках» и вычеркиванию повторений. Даты, которыми помечены несколько заметок, сохранены. При публикации мемуаров о ЕЛ. Пешковой один вариант текста принят за основной, в него вставлены три отрывка из другого; совсем небольшие заимствования оттуда даны в подстрочных примечаниях. В итоге не потеряно ничего, но фрагментарность, естественно, осталась. Общее заглавие и названия трех частей даны составителями.
Текст фрагментов воспоминаний публикуется в том же виде, как он появился в парижском издании (1986) и в московском репринте (1990), с исправлениями. Примечания переработаны. Псевдонимы публикаторов раскрываются: К. Громов — Ф. Перченок, С. Боголепов — И. Сафонов.
ДОМ, СЕМЬЯ, ДЕТСТВО
Над столом на стене висит длинная фотография — не цветная, а раскрашенная каким-то мастером в незапамятные времена, когда и духу не было цветной фотографии — и слава Богу. Она раскрашена с любовью, с соблюдением воздушной перспективы. История ее замечательна. Во дво-
- 50 —
ре у помойки валялся выброшенный кем-то чемодан, а в нем тоже выброшенная за ненадобностью эта панорама Кисловодска. Если в доме есть мальчишка, естественно, он не упустит случая порыться в брошенном чемодане — так она очутилась в нашем доме.
Это очень старая фотография — с тех пор, наверное, Кисловодск изменился до неузнаваемости1. Но на фотографии он такой, каким я его помню с раннего детства — а этому… не будем говорить, сколько лет. Она снята с холмов, расположенных напротив «нашей» стороны, сверху вниз, так что снизу расположен парк, за ним — Крестовая гора, за нею — ряд безымянных холмов до входа в парк. На них ряд дач Барановской, презираемых моей бабушкой за легковесность постройки и коммерческий уклон в использовании. Так наша улица — Эмировская улица — и делилась на владения моей бабушки Сафонихи и Барановичихи, двух кисловодских старожилок. Крестовой гора называлась из-за каменного креста на ее вершине. Даже и тогда я не знала, в память чего или кого поставлен этот крест. Была на нем надпись, но выветрилась и стала неразборчива.
На Крестовой горе против ворот нашего дома еще только намечена граница того участка, на котором потом построит свой дом тетя Настя Кабат2 — сестра моего отца3. Участок небольшой, на склоне. Потом он будет увеличен за счет отвесной каменной стены со стороны улицы и насыпанной земли. Потом там будет построен очень удобный и поместительный дом, разведен сад с прекрасным цветником и с отвесной стены водопадом польются кусты вьющихся алых роз — но все это потом. А пока над парком в густой зелени виден только балкон на втором этаже старого бабушкиного дома, затянутый холщовыми занавесями-парусами, — парусный балкон. На этот балкон выходила наша с сестрой Варей4 комната. С балкона виден почти весь Кисловодск.
Прямо под садом нашего дома — вершины деревьев парка, и когда цветут липы — голова кружится от медового запаха. Левее от сада — крыша гостиницы «Парк», построенной дедом5. Гостиница построена добротно, и ее отличает от других то, что между номерами капитальные стены звуконепроницаемы. В ней всего сорок номеров.
1 ПРИМЕЧАНИЯ
Фрагменты воспоминаний должны были появиться в 1984–1985 гг. в историческом сборнике «Память». Выпуск готовился в то время, когда главный редактор «Памяти» ленинградский историк А. Л. Рогинский (отказавшийся эмигрировать вопреки нажиму КГБ СССР) находился в четырехлетнем заключении. Оставшиеся на свободе сотрудники «Памяти» собрали и отредактировали шестой выпуск, после чего набор, верстка, считывание текстов и т. д. были осуществлены в Париже Вл. Аллоем — постоянным издателем «Памяти», которому приходилось выполнять там и всю черновую работу, непосредственно связанную с изданием. Активные (и, надо сказать, точно рассчитанные) действия КГБ (в Ленинграде редакторам выпуска № 6 высокий чин ясно дал понять, что «органы» все подготовили для того, чтобы прибавить А. Д. Рогинскому новый срок, не выпуская его из зоны) привели к намерению приурочить выход в свет шестого выпуска «Памяти» буквально к первым дням после освобождения Рогинского в августе 1985 г. Парижские осложнения помешали этому, в результате чего шестой выпуск вынужден был сменить обложку. Вместо № 6 «Памяти» вышли — с сильной задержкой — № 1 и 2 «Минувшего».
Тем временем воспоминания А. Л. Книпер были опубликованы в нью-йоркском «Новом журнале» (№ 159, 1985).
До репринтных отечественных изданий «Минувшего» ряд текстов из его № 1—7 перепечатывался с нарушением авторских и издательских прав. По отношению к «Фрагментам воспоминаний» отметим пиратскую публикацию, осуществленную редакцией «Литературной России» в 1990 г. в № 2 ее еженедельника «Русский рубеж» (под заголовком «Адмирал Колчак и его любимая женщина»). Протест, обращенный в редакцию, ничего не дал; от «Русского рубежа» и «Литературной России» не последовало даже извинения.
Из старого, десятилетней давности предисловия приведем здесь три абзаца.
«Сафоновские» страницы приоткрывают жизнь семьи интеллигентной (из тех, на которых стоит отечественная культура), проливают свет на истоки жизнестойкости автора. К сожалению, в наше время лишь единицы, причем обычно из старых дворянских фамилий, озабочены собиранием материалов к истории своего рода. Редакция посчитала необходимым снабдить семейные страницы воспоминаний Анны Васильевны подробными примечаниями, чтобы образовать ядро «Материалов к истории семьи Сафоновых».
Сердцевина текста — страницы о Колчаке. Готовя их к печати, мы сами для себя открыли этого человека, с его развитым чувством чести и любви к родине, далекого от шкурничества и корысти. Тут важна каждая деталь. размывающая или размалывающая стандартный образ. Но история любви адмирала, может быть, сильнее всего превращает плакатную фигуру в живого человека. В написанных фрагментах ничего не сказано об омском периоде деятельности Колчака, когда он взялся за неподходившую ему роль (Трафальгар бы ему, а не Омск; «Трагедия адмирала Колчака» назвал свою книгу С. Л. Мельгунов). Естественно, что и комментарии, коснувшись этой сложной темы, не могли иметь целью ее широкий охват и раскрытие. С другой стороны, грешно было бы, не воспользоваться возможностью и не напомнить о несправедливо замалчиваемой военной и научной деятельности Колчака, в частности о его арктических исследованиях.
Приходится ждать упреков в пристрастности комментариев. Могут сказать: нельзя снимать ответственности с Колчака за то-то и за то-то, нельзя идеализировать его, используя подбор фактов. Но задача здесь была особая — дорисовать тот образ адмирала, который близок автору — героине воспоминаний. Психологические аспекты в таком случае оказываются подчас важнее, чем политические. Кроме того, совсем не бесплодно для историка сосредоточиться на исследовании и обрисовке тех личных качеств и разнообразных заслуг Колчака, которые выдвинули его и сделали в глазах определенного круга людей надеждой нации, благородным знаменем белой идеи. Авторы комментариев готовы упрекнуть себя скорее в том, что не продвинулись далеко по этому пути, чем в обратном.
—————
1 Город Кисловодск, выросший из военного укрепления и терской казачьей станицы, развивался как курорт с нач. XIX в., но особенно быстро — после строительства Владикавказской железной дороги (1875), соединившей Кавказские Минводы с Ростовом. В начале XX в. развернулась сдача в аренду казенных земель для дач. Особенно много многоквартирных дач («Русь», «Мавритания», «Забава», «Затишье», «Видгор») было построено О. А. Барановской на землях, полученных ею в пожизненное пользование. В это же время в городе был разбит новый парк. В 1910–1911 гг. Кисловодск стал первым в России зимним курортом. Он был самым быстро растущим из курортов Кавказских Минвод и главным центром их культурной жизни. В курзале Владикавказской ж. д. играл большой (до 80 человек) симфонический оркестр (с ним выступали А. К. Глазунов, М.М. Ипполитов-Иванов, В.И. Сафонов), ставились оперные спектакли с участием приезжих знаменитостей.
Фрагменту воспоминаний, непосредственно посвященному панораме Кисловодска, в рукописи предпослана надпись: «Илюше Сафонову от тети Ани».
2 Кабат (урожд. Сафонова), Анастасия Ильинична (ум. 1932) — старшая сестра В. И. Сафонова. Была замужем за его лицейским товарищем А. И. Кабатом (1848—1917) — финансистом и общественным деятелем. По воспоминаниям А.В., была «хранительницей и сказительницей семейных преданий». После переезда семьи в Петербург брала уроки музыки у проф. Т. О. Лешетицкого, бывшего одновременно одним из первых учителей В. И. Сафонова. Когда ее сестра М. И. Плеске овдовела, оставшись с пятью детьми, взяла на себя заботу о семье Плеске и прекратила занятия музыкой. После революции, лишившись средств к существованию, зарабатывала частными уроками музыки и приобрела как педагог популярность среди жителей Кисловодска. В последние годы жизни получала персональную пенсию за заслуги брата. Умерла в Кисловодске.
3 Сафонов, Василий Ильич (1852—1918) — пианист, дирижер, муз. педагог. Первые годы провел в станице Ищерской над Тереком, в 1862 г. семья переехала в Петербург. Окончил Александровский лицей (1872), Петерб. консерваторию (1880, поступил в 1879). С 1880 г. совмещал концертную деятельность с преподаванием в Петерб. консерватории. Приняв предложение П. И. Чайковского, стал профессором Моск. консерватории (1885), а затем С. И. Танеев и Чайковский убедили его взять на себя руководство ею (директор МК с 1889). Главный инициатор и организатор постройки нового здания МК, сумел добиться субсидии от царя и большой денежной помощи от московских купцов. В 1890–1905 гг. — худ. рук. концертов Рус. Муз. об-ва в Москве и их главный дирижер. Борьба Сафонова за укрепление учебной дисциплины среди преподавателей и учащихся, его единоначалие и самовластность, горячность и временами несдержанность, расхождения с худ. советом МК, а позднее — отрицательное отношение к революционному движению и забастовочному комитету студентов (создан в МК весной 1905) вызвали оппозицию среди части студентов и профессоров. К этому прибавился личный конфликт с Танеевым. Участие студентов своего класса в сходках и в студенческом движении Василий Ильич воспринял как измену искусству и ему лично. В 1905 г. он взял отпуск и уехал на гастроли в Америку, а затем отказался вернуться в МК, вышел в отставку и переселил семью в Петербург. В 1906–1909 гг. жил в США (дирижер филармонии и одновременно директор Нац. консерватории в Нью-Йорке), затем вел концертную работу в России и в заграничных турне. Создал свою пианистическую школу. Среди его учеников — А. Н. Скрябин (в судьбе которого он принял особенно большое участие), Л. В. Николаев, А. Ф. Гедике, сестры Гнесины, Е.А. Бекман-Щербина, Н. К. Метнер, И. А. Левин, Р.Я. Бесси-Левина; учеником Сафонова считал себя А. Б. Гольденвейзер. Основал (1912) муз. школу в Кавказских Минводах (ныне муз. школа № 1 в Пятигорске), где имелась стипендия на деньги В. И. Полностью на его деньги построена концертная раковина в Кисловодском парке. В советской литературе имя Сафонова практически отсутствовало вплоть до 1950-х годов; 100-летний юбилей его был отмечен в 1959 г. Победа В. Клиберна на Первом международном конкурсе им. П. И. Чайковского (Москва, 1958) вызвала волну интереса к творчеству В. И. Сафонова, т. к. В. Клиберн является учеником Р.Я. Бесси-Левиной, принадлежавшей к пианистической школе Сафонова. После победы на конкурсе, во время своих гастролей в Киеве, В. Клиберн встретился с Анной Васильевной и написал ей: «Я приветствую еще одну дочь моего „музыкального деда“».
Юбилей Сафонова послужил для Анны Васильевны одним из толчков к написанию публикуемых воспоминаний. «Сколько раз я собиралась записать то, что помню об отце, и все не могла собраться. Но вот после выслушанного мною протокольного доклада, где образ этого замечательного человека и артиста был полностью выхолощен и доведен до скупой абстракции, до меня дошло, что надо писать все, что помнишь, независимо от литературной ценности записей».
В настоящее время имя Василия Ильича носят улицы в Кисловодске и станице Ищерской, Большой концертный зал Кисловодской филармонии, Русский историко-культурный центр (Кисловодск), муз. школа (Пятигорск). Периодически проводятся два конкурса его имени: Всероссийский конкурс пианистов в Кисловодске (открыт для участия зарубежных исполнителей) и конкурс молодых дарований в Пятигорске. Центром изучения жизни и творчества В. И. Сафонова стал музей музыкальной и театральной культуры в Кавказских Минводах (Кисловодск; дир. Б.М. Розенфельд).
4 Сафонова, Варвара Васильевна (1895-1942) жила в столице с 1906 г. Училась в частной гимназии кн. Оболенской. Пианистка, была дружна с А. Н. Скрябиным. Изучала живопись в частной студии Зейденберга, затем (с 1914) в школе живописи Е. Н. Званцевой, у К.С. Петрова-Водкина. Стала профессиональной художницей. В 1917–1923 гг. — в Кисловодске и Тифлисе, затем вернулась в Петроград. Здесь занимала более просторную из двух комнат, оставшихся во владении Сафоновых (во второй — сестра Ольга с мужем и сыном); комната В.В. служила также худ. студией, здесь помещался и рояль. В 20–30-е годы В.В. и О.В. были стеснены в материальном отношении, и их младшая сестра Елена посылала им из Москвы краски, кисти, синьку, сахар и т. д. Умерла от голода в январе 1942 г.
5 Сафонов, Илья Иванович (1825—1896) — генерал-лейтенант (1893) Терского казачьего войска. Вступил в службу рядовым (1845), прошел на Кавказе ряд военных кампаний (1848—1961). В 1862 г. переведен на службу в столицу. Был командиром лейб-гвардии Терского казачьего эскадрона; по случаю освящения штандарта эскадрона (1868) написал песню «Полным сердцем торжествуя, терцы весело поют…». Командовал Терской каз. бригадой (1885—1893), 2-й Кавказской каз. дивизией (1893—1895), в последний год жизни состоял при войсках Кавказского военного округа. При участии и материальной поддержке И. И. в Кисловодске были выстроены вокзал железной дороги и курзал при нем, ставший центром музыкальной жизни Кавказских Минвод. Монархические взгляды И.И., его глубокая религиозность (правда, он не принадлежал к официальному православию, а был единоверцем), убежденность в том, что казаков должно рассматривать не только как боевую силу, но и как образцовых граждан, «чуждых заразе социализма» (см. письмо его на с. 507—514 кн.: П о п к о И. Д. Терские казаки со стародавних времен. Ист. очерк. Вып I. СПб., 1880), оказали влияние на членов его семьи. Умер в августе 1896 г. На похоронах его присутствовали, в частности, А. П. Чехов и А. И. Чупров. Его жена Анна Илларионовна Сафонова (урожд. Фролова) умерла в ноябре 1907 г.
- 51 —
Нам, детям, ходить туда запрещено — чтобы не шумели. Дорожка от нее ведет прямо в парк, к раковине для оркестра. Дальше — площадка перед нарзанной галереей. Нарзан бьет в резервуар сильной струёй. Хорошенькие подавальщицы подают стаканы: кто хочет — с сиропом, кто просто так. Дальше — Тополевая аллея. В гражданскую войну ее вырубили, чтобы не мешала стрелять, не служила укрытием. Не знаю, возобновили ли ее теперь.
Вверх и направо от галереи дорога ведет к Курзалу (там теперь приютился музей музыкальной и театральной культуры) и железнодорожному вокзалу. Позднее на моей памяти там был тоннель, увитый диким виноградом, в жаркие дни приятно тенистый. А за ним — Доброва балка. Она только начинала застраиваться, и, детьми, на каменистых ее возвышениях хорошо было ловить ящериц — серо-пестрых, с голубыми и оранжевыми животиками, и зеленых. Чтобы их не попортить, надо целиться несколько впереди их хода, чтобы они сами по инерции попадали под руку, — иначе можно схватить за хвост, ящерица оставит его в руке, а сама убежит. Подержишь ее, полюбуешься ее стройной мордой и отпустишь.
А дальше уже более высокие Синие горы. Лунными ночами мы ходили на них, чтобы к рассвету быть на горе Джинал, пока не появились из ущелий облака и не закрыли Эльбрус и снежную цепь. Перед рассветом холодно — «холодеет ночь перед зарею», и в лунном свете не разберешь, есть ли облака или нет, — цепь гор сливается с лесом. И только когда начинает светать, обозначается теневая сторона склонов. И открывается вся цепь, розовая от зари, — какая редкость! И весь день ходишь с праздником в душе — а горы…
Наверно, ничего прекраснее этого в жизни я не видела.
По правую сторону от нашего дома понизу тянется парк, через который течет река Ольховка, над ним ряд невысоких холмов с дачами кончается горой, недавно засаженной сосенками, подъем на нее идет зигзагами, так что почти не заметен. Выход из парка ведет на Базарную площадь мимо стеклянной струи и источника. По этой дороге мы ходим, вернее, нас водят по воскресеньям в церковь на той же площади. Нас восемь человек детей — три мальчика и пять девочек. Мы должны идти попарно, а сзади папа
- 52 —
и мама6. Им-то хорошо, а каково нам — идти такой процессией, тем более что знакомых тьма.
Церковь большая, с голубыми куполами. Когда звонят к обедне или всенощной, у нас в саду хорошо слышен колокольный звон, хорошо и грустно немного. Около церкви похоронены дедушка и бабушка, потом брат, умерший от ран на германской войне, потом папа, потом мама — два белых мраморных креста. Теперь все сровнено с землей, и можно определить место только по могиле Ярошенко, расположенной неподалеку7.
На первом плане панорамы — нагромождение домов разных размеров, узкие улочки этой части города мы как-то не знаем — ходить туда незачем. Разве в аптеку, где продаются разные штуки для фейерверка — колеса, фонтаны, ракеты, римские свечи и бенгальские огни в папиросных гильзах. Папироса стоит 1 коп., но если берешь дюжину, то она стоит гривенник. Все эти штуки — предмет моего страстного увлечения. Когда теперь я смотрю на салют — красиво. Но какое волшебство было в этих копеечных огнях, как очаровательно били огнем фонтаны и крутились колеса!
Пожалуй, отца я помню больше всего в Кисловодске. Он отдыхал, концертов не было, мы больше его видели. То есть что значит — отдыхал? Последние годы, вернувшись опять к роялю, он проводил за ним большую часть времени. Когда же он не играл, то постоянно делал гимнастику пальцев для поддержания их гибкости по своей системе: закладывал большой палец между другими сначала медленно, потом с молниеносной быстротой в различных комбинациях.
У него была подагра, и он очень следил за своими руками. Часто я делала ему маникюр и массаж рук.
Иногда после обеда он собирал нас и заставлял петь под рояль хоралы Баха. Сестра Оля8 говорила: «Нахоралились!» Как-то он мне сказал:
— Да ты хорошо ноты читаешь!
— Нет.
— А как же ты поешь?
— А ты ударишь клавишу, а я сразу ноту и беру.
6 Сафонова (урожд. Вышнеградская), Варвара Ивановна (1863—1921) была женой В. И. Сафонова с 1882 г. Обладательница прекрасного меццо-сопрано, окончила Петерб. консерваторию по классу пения проф. К. Эверарди (1882, с малой золотой медалью), концертировала в 1880-е. Затем отдалась делам дома и воспитанию десятерых своих детей. В 1917 г., уехав летом, как обычно, со всей семьей в Кисловодск, осталась там и после смерти мужа. По установлении в городе советской власти всю семью, начиная с В.И., несколько раз выводили на расстрел, требуя сдачи ценностей, которых Сафоновы не имели, т. к. перед самой революцией В.И. сдала их на хранение в Гос. банк; первый такой случай произошел, видимо, вскоре после того, как Терский народный совет наложил на буржуазию г. Кисловодска контрибуцию в 30 млн. руб. (апрель 1918). После смерти В.И. ее дети разъехались из Кисловодска, и оставшаяся там часть сафоновского семейного архива заметно пострадала.
7 Ярошенко, Николай Александрович (1846—1898) — рус. живописец, член Товарищества передвижных худ. выставок. Артиллерист, вышел в запас генерал-майором (1892); в отставке с 1893 г. С 1882 г. почти каждое лето, а с 1892 г. постоянно жил в Кисловодске, где имел свою небольшую усадьбу. Семьи Я. и Сафоновых в Кисловодске довольно тесно соприкасались. Кисти Я. принадлежит портрет И. И. Сафонова, сохранившийся в семье Сафоновых в искалеченном виде (опасаясь преследований за предка-генерала, его наследники обрезали на картине эполеты и мундир, оставив лишь лицо; позже, при попытке реставрации, портрет был безнадежно поврежден). Умер и похоронен в Кисловодске.
Могилы Сафоновых уничтожены, когда (ок. 1932) был взорван собор и затем на месте собора, окружавших его могил и Соборной площади сооружены Красная площадь и сквер.
8 Сафонова, Ольга Васильевна (1899—1942) род. в Кисловодске; с 1906 г. жила в Петербурге. Училась в гимназии Л. С. Таганцевой. В 1916 г. — в театр студии В. Э. Мейерхольда на Бородинской, 6. Мейерхольд в нее влюбился, родители О.В. воспротивились бурно развивавшимся отношениям, и она из студии ушла; переписка ее с В.Э. продолжалась несколько лет (см.: Мейерхольд В. Э. Переписка. 1896-1939. М., 1976, ук. имен). Со знакомства В.Э. с О.В. начались его приятельские отношения с тремя сестрами — Ольгой, Варварой и Марией. В 1917–1921 гг. жила в Кисловодске; вернулась оттуда в Ленинград. В 1924–1927 гг. — во Вхутеине (бывш. Академии художеств) на живописном факультете; училась у К.С. Петрова-Водкина. После окончания была вынуждена работать чертежницей, выполнять различные ремесленные работы и т. д. С 1931 г. замужем за художником К. А. Смородским. После уплотнения осталась жить вместе с сестрой Варварой в прежней петерб. квартире Сафоновых (Фурштадтская, позже Петра Лаврова, 37). После начала войны работала на оборону города (плела сети для аэростатов). В январе 1942 г. умерла от голода вместе с сестрой и мужем. Часть ленингр. архива Сафоновых попала в Музей муз. культуры (ныне — им. М.И. Глинки), часть погибла во время блокады.
- 53 —
Чаще всего мы пели хорал «Wer nur den Lieben Gott labt walten und hoffet auf Ihn allezeit»*.
Но иногда стиль музыки был не такой классический. Как-то братья — Илюша-виолончелист9, Ваня-скрипач10 — и пианистка Мария Ивановна Махарина11 устроили вечером румынский оркестр. Играли всякую всячину из опереток. Папа слушал, слушал — и не выдержал: взял бубен и стал им подыгрывать; замечательно подыгрывал и очень забавлялся.
Отец хорошо ездил верхом в казачьем седле. Я помню, как всей семьей мы выезжали верст за 25 в долину реки Хасаут, где били источники нарзана прямо из земли, — отец и братья верхами, мы с мамой на долгуше.
Всходило солнце, из ущелий начинал подниматься голубой туман, на глазах рождались облака.
А потом мы спускались в долину к горной реченьке — и горы уходили одна за другой: все голубее, все легче.
Возвращались поздно, пели хорошо — все казачьи песни:
Пыль клубится по дороге,
Слышны выстрелы порой,
Из набега удалого
Скачут сунженцы домой…
Ну-тко вспомните, ребята,
Как стояли в Зеренах…
Много мы их знали, пели постоянно. Так что когда меня девочкой лет четырех привели в церковь, и я услышала пение, то тут же тоже запела «Пыль клубится по дороге»: надо же помочь.
Хорошие песни, хорошие слова. Ну что за прелесть:
Долина моя, долинушка,
Долина широкая!
Из-за этой за долинушки
Заря, братцы, занималася.
Из-за этой ясной зореньки
Солнце, братцы, выкаталося.
И всё — а какая радость, какое торжество от этого восходящего солнца!
- «Кто одного лишь Бога возлюбил и на Него все время уповает» (нем). (И.С. Бах. Кантата № 93)
9 Сафонов, Илья Васильевич (1887—1931) — виолончелист. С гимназических лет был болен туберкулезом и в молодые годы прошел курс лечения в Давосе. Игре на виолончели обучался у Юлиуса Кленгеля, одновременно занимался в Лейпцигском ун-те. Выступал в концертах с братом Иваном. Жил в 20-е годы в Москве. Умер в Одессе от туберкулеза.
10 Сафонов, Иван Васильевич (1891—1955) был как скрипач учеником Лессмана. Одновременно с окончанием юридического факультета Петербургского ун-та сдал экзамены в консерватории, получив звание свободного художника. С 1912 г. стал постоянным партнером отца и участвовал в его концертных поездках. Был дирижером Терского казачьего симфонического оркестра (Владикавказ). После революции — в основном педагог и методист. Приспособил для обучения скрипичному мастерству отцовскую методику обучения игры на фортепиано; системой И.В. Сафонова пользуются и сейчас в скрипичной школе И. Менухина (США, потом Великобритания). Стремясь повысить качество скрипок отечественного производства, изучал технологию изготовления скрипок, много работал с мастерами — их создателями. Преподавал в муз. школах, вел частные занятия.
11 Махарина, Мария Ивановна, — певица (сопрано), в 1896–1902 гг. — артистка оперной труппы Имп. Большого театра.
- 54 —
Стол у нас в доме всегда был хороший, но не без вариаций. То вдруг папа заявит, что надо переходить на вегетарианство, — к столу подают печеную картошку, кукурузу, кислое молоко, вегетарианские супы.
Так продолжается недели две.
В конце концов, папа жалобно говорит маме: «Варенька, ты бы биточки заказала!»
В результате этого выступления папа получил негласное прозвище «граф Сигаров-Биточкин» — за глаза, конечно: посмели бы мы его так в глаза назвать! Называли мы его, тоже втайне от взрослых, «Базили».
И снова начинается — кавказский борщ, перепела, шашлык, вырезка на вертеле. И огромные блюда вареников с вишнями. За стол садилось человек пятнадцать с детьми, домочадцами — и постоянно кто-нибудь из гостей. Блюда обносились с двух сторон стола, иначе бы конца обеду не было. Гомерическая трапеза! Кажется, сейчас за три дня не съесть того, что поглощалось с легкостью за обедом.
После обеда все переходили на террасу, в середине которой росли два больших каштана. Ее расширили, а каштаны спилить пожалели, так и оставили… Там пили кофе, в жару подавали арбузы, дыни из погреба, холодные.
Обедали в два часа. Затем до пяти, в самую жару, все сидят в комнатах с закрытыми ставнями, всякий занимается чем хочет. В пять часов — чай.
В это время по дорожке, поднимающейся из парка к нашему дому, начинается нашествие посетителей: какие-то дамы, которым папа с серьезным видом говорит комплименты, от которых, с нашей точки зрения, можно сгореть со стыда, до того они гиперболичны, — а им хоть бы что, всё принимают за чистую монету; приезжие музыканты, папины ученики, кого только нет! Постоянно — Евсей Белоусов12, которого папа очень любит, и братья с ним дружат.
Чаи эти — тяжелое для меня время: я старшая дочь, молодая девушка должна разливать чай. Это не так просто: за столом опять 15 человек. Жарко, хочется пить. 15 человек по 2 чашки — 30, по 3 — 45. У папы насчет чая свои принципы, в чашку наливать только через чай-
12 Белоусов, Евсей (Ефрем) Яковлевич (1882—1945) — виолончелист. Окончил Московскую консерваторию в 1903 г. С успехом концертировал в городах России, выступал в ансамбле с пианистами В. И. Сафоновым и А. К. Боровским. С 1922 г. жил за границей, гастролировал в европ. странах. В 1926 г. поселился в США, с 1930 г. преподавал в Джульярдской муз. школе. Умер в Нью-Йорке.
У Анны Васильевны есть еще следующая запись о нем:
«Неистощимый каламбурист: подают пирог с ежевикой — Евсей (Евшлык он у нас называется):
— Вот тут и поживи-ка! У него большие рыжие усы и открытое русское лицо. Папа рассказывает какой-нибудь еврейский анекдот, потом смотрит на Евшлыка:
—Прости, Евсеюшка, я все забываю, что ты жид».
- 55 —
ник, а не из самовара. Доливаешь в чайник раз, другой, третий — а они все пьют, конца нет!
Конец все-таки!
Это лучшее время дня. Уже нежарко, самый красивый свет, ходить — одно удовольствие.
Иногда идет все семейство. Тогда папа с мамой идут по дороге в парк, идущей зигзагами. Мы ее называем Professoren — или Idiotenweg — и лезем прямо в гору. Однако теперь мне кажется, что «идиотская дорога» имела свои достоинства…
У папы были всегда какие-нибудь увлечения. Одно время это был лимонный сок. Не знаю, было ли это по предписанию врача, но папа и сам его пил, и мы должны были пить. Подходили к нему за обедом по очереди и получали по рюмочке. Кислятина ужасная. Надо было пить и не поморщиться — мы пьем, а он смотрит, не делаем ли гримасы.
Или возьмет руку и крепко жмет; смотришь ему в глаза и улыбаешься.
Вообще у нас заплакать от боли, от ушиба считалось позорным — терпи, не подавай виду.
Я очень любила ездить верхом. Как-то поехали мы в жаркий день в степь к Подкумку. Жарко, разморило. Я ехала, распустив поводья, вдруг из-под ног лошади взлетел перепел. Лошадь испугалась, понесла, поводьев подобрать я не успела и вылетела из седла, а нога осталась в стремени, и меня порядком протащило по камням. В конце концов встала, села в седло, доехала до дому. От бедра до колена нога была черная от кровоподтека, каждое движение — мука. И сказать нельзя, и хромать нельзя: спросят почему и, пожалуй, не пустят больше кататься верхом. Так и проходила целую неделю — не хромая и с веселым видом.
Помню, бабушка Сафонова рассказывала, что во время какого-то турецкого похода казаки станицы Шелковской привезли себе из Турции пленных турчанок и переженились на них. Но те были женщины гаремного воспитания и палец о палец не хотели ударить. Заходит прохожий: «Подай воды напиться!» Хозяйка лежит на постели, отвечает: «Вот придет Иван, он тебе подаст».
- 56 —
Стоило нам залениться — и сразу же: «Ах ты шелковская казачка!»
Бабушка считала, что человек должен сажать деревья и копать колодцы. И нам, детям, были отведены в саду участки, где мы сажали что хотели (потаскивая из большого цветника).
Источников под Кисловодском мало — на дороге между полустанком Минуткой и Подкумком она велела выкопать колодец, чтобы проезжие могли напиться и скот напоить (для скота стояла каменная колода).
Бабушка не разрешала разрезать узлы на веревках, давала распутывать мотки шелка, чтобы приучить к терпению и выдержке. И при этом рассказывала о том, как цари выбирали невест: собранным на смотрины девушкам давали спутанные нитки шелка, а царь подсматривал в щелку, как они это делают. Если кто-нибудь из них дергал нитки и сердился, то ее кандидатура отпадала.
Да и то сказать — немало терпения нужно царской невесте! До сих пор не люблю узлы резать.
Каждому из своих внуков она прочила блестящую будущность: «Ты мой Пушкин», «Ты моя Патти13». Ее зять Плеске14 как-то сказал: «Я спокоен за Россию — тринадцать великих людей ей обеспечено: это внуки Анны Илларионовны».
Она любила и часто повторяла слова 50-го псалма Давида: «Сердце чисто созижди во мне. Боже, и дух прав обнови в утробе моей». Высокого строя души была женщина.
Бабушка — «бусенька», «буленька» мы ее звали — очень любила цветы. Сама за ними ухаживала. В саду в Кисловодске было много роз, она считала, что надо их поливать колодезной водой, и во время дождя бегала от куста к кусту с лейкой. Своих новорожденных внуков подносила к розам, чтобы они понюхали, как хорошо пахнет. После ее смерти розы стали уже не те.
Много она знала казачьих песен и любила их, а про русские говорила: «Что это за песни! Ах ты береза, ты моя береза, все были пьяны, ты одна тверёза».
Редко у кого я видела такое поэтическое восприятие жизни, как у этой совсем малограмотной женщины.
И уж никто не умел так устроить праздник для детей, как она.
13 Патти, Аделина (1843 1919) — итальянская певица (колоратурное сопрано). Выступала в концертах с 7-летнего возраста. В 1859–1898 гг. -на оперной сцене, затем концертировала до 1914 г. Гастроли ее во многих странах носили сенсационный характер. Неоднократно пела в России.
14 Плеске, Эдуард Дмитриевич (1852—1904) — лицейский друг и одноклассник В. И. Сафонова, которому он посвятил свой первый композиторский опыт — «Листок из альбома», а затем — «в память дружбы» — «Романс». Пианист, член дирекции Моск. отделения Имп. Рус. Муз. об-ва и уполномоченный от МО ИРМО в Главной дирекции ИРМО. Сделал успешную карьеру: тайный советник, директор Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов (1892—1894), управляющий Гос. банка (1894—1903), министр финансов (август 1903—февраль 1904), член Гос. Совета (1904). Женат на сестре В. И. Сафонова — Марии Ильиничне (ум. 1944).
- 57 —
В день рождения сторожит у двери, ждет, когда проснешься, — чтобы сразу подарить, чтобы праздник начинался, как только откроешь глаза: войдет с подносом, а на нем непременно разные подарки: какие-нибудь бусы, шелковый платок, кусок кисеи, ваза с медом и сверх всего — ветка цветущей липы.
Лошадей, кроме старой Вороны, она не держала. Но иногда нанимала кисловодского извозчика Илью Климова на пароконной коляске и, насыпав ее ребятами, возила нас катать, и непременно «через воду»: переезжала мели, речки — и мы наслаждались тем, как плещется под колесами вода, как видны сквозь нее мокрые камешки.
Когда мы, дети, ссорились и дрались — всего бывало, — она заставляла нас мириться до того, как пойдем спать, чтобы зла не оставлять на следующий день.
Пошлет за чем-нибудь — принеси. «Бусенька, а где это?» — «Найди, а я укажу» — ни за что не скажет где.
Иногда вдруг начинала сама стряпать — непременно станичные кушанья: пирог с калиной, который мама называла «пирог с дровами» из-за косточек, пресные пышки с чернушкой — душистое такое семя. Напечет перед самым обедом и накормит нас. Пышки жирные, вкуснее ничего, кажется, не ела. А нам не позволяли бегать с кусками. Мама скажет: «Зачем, Вы, мамаша, детей не вовремя кормите?» — «Оставь, Варенька, дети должны есть, когда им хочется».
А когда нас на лето привозили из Москвы к ней — уже подъезжая к Минеральным Водам, мы видели, как навстречу поезду бежит по платформе бусенька. И протягивает корзину с земляникой прямо в окно.
А характер был твердый. Когда отец был мальчиком, ему как-то понравился сваренный ею борщ, и он заявил: «Я сто тарелок съем!» Съел одну — она ему другую, съел другую — она третью; на пятой он заревел. «Что же ты хвастался?»
Семья была патриархальная, религиозная и монархическая, а все-таки помню бабушкин рассказ о том, как приезжал на Кавказ Николай I. Встречали его торжественно, как полагается. Собрали и хор казачек, и, когда он взял за подбородок одну: «Какая хорошенькая», та хлоп-
- 58 —
нула его по руке: не лезь куда не надо. И видно было, что бабушка это вполне одобряла.
Рассказывала нам бабушка Анна Илларионовна, как, приехав в Петербург, привыкала к новой жизни: как накупила себе семнадцать пар ботинок, которые все почему-то рвались на мизинце, и как потом плакала над этой грудой; как сшила платье с кринолином и поехала в оперу, в ложу, — и никак с этим кринолином не могла справиться: то с одной стороны поднимется, то с другой, — никак не сесть.
Об ее одежде заботилась тетя Настя — присылала ей из Петербурга шляпы: вдовьи, черные, с завязками из лент; кружевные наколки, которые она носила дома. Как-то раз, приехав в Петербург, она и говорит тете Насте: «Что же это ты мать чучелой вырядила, прислала не шляпу, а какую-то башню?» — «Маменька, да ведь в шляпе-то две наколки были вложены», — а она их все так и проносила.
Бабушка была для меня необычайна всегда. Зазовет в свою комнату в Кисловодске, с закрытыми ставнями, всегда прохладную, где на веревочках висели кисти винограда, а в шкапу такие интересные вещи, которые она любила перебирать: слитки серебра из дедушкиных эполет, плитки кирпичного чая, в коробочках — завернутые в папиросную бумагу альмандины, аметисты и топазы, — тут же и подарит.
И особенно памятен мне кусок коричневого сатина с большими розовыми розами. Купила его бабушка в память того, что когда-то маленькой девочкой осталась она в станице дома одна, а к ним зашла нищенка, и ей так ее стало жалко, что она вытащила точно такой же кусок у матери из сундука и отдала ей, а когда та ушла, ужасно перепугалась, что это она наделала, и заплакала — так матери с плачем и рассказала. «А мать у меня умная была, только и сказала — ты больше так без спросу не делай».
И еще помню ее рассказ, как проездом через станицу Червленую был у них в доме Пушкин, а мать только что испекла хлебы — и они лежали еще теплые на столе. Пушкин отламывал кусочки, ел и похваливал; а когда
- 59 —
ушел, то мать сказала: «Поди выброси свиньям — ишь исковырял своими ногтищами»*.
Вы просили написать о своей жизни, говорили, что легче писать, обращаясь к кому-нибудь, — что ж, это, может быть, и правда. Момент благоприятен — августовский день тепел, кругом суздальские поля да на горизонте полоска лесов. Я лежу в тени терновых кустов, ветер шевелит ветки с синими ягодами — начнем.
Я, в сущности, ничего не знаю о своих предках, мое представление о них начинается с деда и бабушек. Впрочем, на стене в маминой спальне висел портрет ее деда, священника, потом вышневолоцкого архиерея, — и это все. Его сын и мой дед со стороны матери, Иван Алексеевич Вышнеградский15, окончил духовную семинарию, был сельским учителем, а каким образом он стал одним из основоположников российского машиностроения, в частности по артиллерийской части, директором Петербургского технологического института и министром финансов при Александре III — ничего этого я не знаю. И его я не знала, так как он умер, когда я была совсем крошкой. Женился он на моей бабушке16, когда она была вдовой со сколькими-то детьми. Она была так счастлива с дедом, что основательно забыла о первом своем браке, и как-то сказала при старшей своей дочери: «Вот говорят, что первый ребенок бывает неудачным, — а чем моя Сонечка плоха?» На это старшая, тетя Вера, ей возразила: «Вы забываете, мамаша, что этот первенец у Вас — пятый по счету». Я помню эту бабушку хорошенькой маленькой старушкой, розовой, в седом паричке; бабушка была лысой, что меня очень поразило, когда я ночевала у нее.
Но «настоящая» наша бабушка была Анна Илларионовна Сафонова.
За деда она вышла замуж поздно по тем временам — двадцати двух лет: в 14 лет от роду сделалась невестой, но первый жених ее был убит во время Кавказской войны. Родом она была из станицы Червленой, дед — из Ищер-
- Е. В. Сафоновой запомнилась еще одна реплика прабабки в этой сцене: «Смотри — еще обмирщишься». — Прим. публ.
15 Вышнеградский, Иван Алексеевич (1831—1895) — гос. деятель и ученый-машиновед, основоположник теории автоматического регулирования; крупный предприниматель. Почетный член Петерб. Академии наук (1888). Окончил Главный педагогич. ин-т, где сложились сохранившиеся до конца жизни его близкие товарищеские отношения с учившимся в том же ин-те Д. И. Менделеевым. Проф. (с 1862) на кафедре механики и директор (1875—1878) Петерб. технол. ин-та. Со второй половины 70-х годов — владелец крупных пакетов акций. Входил в правление Петерб. об-ва водопроводов, Юго-Западных железных дорог, Рыбинско-Бологовской железной дороги и др. Его состояние к 1880 г. составляло ок. 1 млн. руб., а к концу жизни возросло, по мнению некоторых, до 25 млн. Занимался устройством Всероссийской пром.-худ. выставки (Москва, 1882). В 1884 г. — член совета министра нар. просвещения, участвовал в выработке университетского устава 1884 г., резко ограничившего права университетов. Управляющий Министерства финансов (1887— 1892), министр финансов (1888—1892). Человек исключительной трудоспособности, с простотой обращения в служебных отношениях, Вышнеградский дисциплинировал и спаял министерство. Сумел ликвидировать к 1891 г. дефицит платежного баланса. Рассчитывая развить нац. промышленность и освободить рус. рынок от ввоза иностранных (особенно германских) пром. товаров, осуществил переход к последовательно покровительственной политике по отношению ко всем отраслям промышленности, добившись при этом и увеличения таможенных доходов. Приступив (с 1889) к радикальному пересмотру существовавшей таможенной практики, привлек к этому делу специалистов, а также организовал учет пожеланий предпринимателей. Подготовил проведенную впоследствии денежную реформу с девальвацией рубля и введением золотого обращения, начав тем самым новый курс финансовой политики. Приступил к конверсии рус. займов, пытаясь упорядочить гос. долги России; серия конверсионных операций во Франции, связавшая в результате деятельности Вышнеградского и его преемников финансы России с Парижской биржей, легла в фундамент франко-рус, союза. Продолжая в ряде отношений политику своего предшественника на посту министра финансов Н. Х. Бунге, Вышнеградский был противником осуществленного Бунге рабочего законодательства (характеризовал его как «сентиментальность, никуда не годную для промышленности»). Выдвинул С. Ю. Витте как гос. деятеля, рекомендовав его (1889) на пост директора учрежденного тогда Департамента ж.-д. дел. Сохранил влияние на Витте, после того как последний сменил Вышнеградского в должности министра финансов (отговорил Витте от опрометчивого выпуска «бумажных сибирских рублей» для нужд ж.-д. строительства). Среди друзей Ивана Алексеевича — поэт А. Н. Майков. В доме И.А. бывали, в числе других деятелей рус. культуры, Я. П. Полонский, Д. В. Григорович, Н. Н. Страхов. В последний год жизни И. А. Вышнеградский состоял почетным членом Моск. отделения Имп. Рус. Муз. об-ва и почетным членом дирекции МО ИРМО.
16 Вышнеградская» Варвара Федоровна (1823—после 1913) — урожд. Доброчеева, по первому браку Холодова. Ниже в тексте упоминаются ее дочери: Вера Николаевна Холодова, в замужестве Бертельс, и Софья Ивановна Вышнеградская, в замужестве Филипьева. Из детей И.А. и В. Ф. Вышнеградских отметим также Александра Ивановича Вышнеградского (1867—?) — промышленника и финансиста (директор Междунар. коммерч. банка в Петербурге, Коломенского машиностр. завода, Московско— Виндавско—Рыбинской железной дороги и т. д.), впоследствии игравшего видную роль в рус. эмиграции. А. И. Вышнеградский был также композитором и деятелем Имп. Рус. Муз. об-ва; попав в декабре 1917 г. в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, писал там свою 4-ю симфонию.
- 60 —
ской станицы. Дед был рябой, и она все думала: «Как же это я буду любить конопатого? Нет, все-таки никого лучше его на свете нет», — думаю, что до конца жизни она осталась такого мнения. Образования не получила никакого, так до конца жизни и не выучилась грамотно писать, писала самым лавочным почерком, и одному только папе. Но была женщина тонкого ума и большого вкуса, читала много и любила из Пушкина больше всего, кажется, «Анчар» — плакала, читая его.
Всех детей любила, но Васенька, по словам тети Насти, был для нее светлое Христово Воскресенье, Маша — двунадесятый праздник, а Настя — это уже рядовое воскресенье.
А дед Илья Иванович был веселый человек: когда посватался и получил согласие, накупил в станичной лавочке пряников, шел по станице и разбрасывал их на радость всем встречным ребятишкам. Образования он был самого простого, только что грамотный, но очень способный. На вышке в его доме в имении Ильинка на Подкумке стоял подаренный ему пулемет Максима, который он в присутствии изобретателя моментально разобрал и собрал без всяких указаний. Казак был что надо — кусок сукна разрубал шашкой на лету. И долго после его смерти все кисловодские извозчики вспоминали, как гулял Илья Иванович — всех, кто попадался на дороге, угощал. А какие чудесные письма писал он отцу и маме, называя ее «друг мой Варенька».
Вряд ли он очень одобрял то, что отец после окончания лицея вскоре отказался от несомненной блестящей карьеры с тем, чтобы стать музыкантом. Но, однажды приняв это, он вошел в круг его интересов. Помню чудесное его письмо отцу, в котором он обсуждает все «за» и «против» его перехода из Петербургской консерватории в Московскую — очень умно и тонко — и кончает так: помни, что, как бы ты ни поступил, наше благословение всегда с тобой.
Семья моего отца была большая — я была шестым по счету ребенком. По порядку старшинства первыми шли сестры Настя17 и Саша18, потом три брата — Илюша, Сережа19 и Ваня, затем я и младшие сестры: Варя, Мария (Муля)20, Оля и Лена21.
17 Сафонова, Анастасия Васильевна (1883—1898), старшая из детей Сафоновых, была на редкость одарена и трудолюбива. Игре на фортепиано ее учил отец, а сама она занималась с братом Илюшей. Стала зрелым исполнителем. Сочинила ряд фортеп. пьес, ни одна из которых не сохранилась целиком; первые этюды были посвящены матери. Писала прозу (на рус. и франц.), стихи (на рус. и нем.), пыталась переводить стихи (с нем. и англ.). В ее тетрадях (напр., «Бурда», 1897) все это перемежается нотами и выразительными рисунками пером. С нее и ее сестры Александры ведут начало сохранившиеся в семейном архиве и подвергавшиеся взаимному суду рукописные книги собственных сочинений, альбомы рисунков (карандаш, акварель), домашние сборники и журналы (с «изданием» произведений одних братьев и сестер другими).
18 Сафонова, Александра Васильевна (1885—1898) тоже занималась и музыкой, и рисованием, и лит. сочинительством. В 10-летнем возрасте выпускала журнал «Глупая мысль», а в 11 лет переписала свое «собрание сочинений в 6 томах», где находим мемуары с иллюстрациями к ним, повести, стихи, а также некоторые тексты на франц. языке. Как и другие дети Сафоновых, получила раннее домашнее воспитание, в результате чего в 5-летнем возрасте читала и писала по-русски и (в меньшей степени) по-французски.
19 О Сафонове Сергее Васильевиче (1889—1915) в семье не сохранилось других биографических сведений, кроме тех, что содержатся в тексте воспоминаний Анны Васильевны; см. также ее письмо к Колчаку от 7 марта 1918 г.
20 Сафонова (Крейн-Сафонова), Мария Васильевна (1897—1989) стала пианисткой еще в России. В петрогр. квартире Сафоновых играла для Мейерхольда, очень сожалевшего потом об ее отъезде («Кто же теперь будет мне играть Скрябина?»). В 1921 г., после смерти матери, бежала от угрозы расстрела вместе со своей подругой — певицей Юлией Чикваидзе (за границей — Джулия Джили). По Военно-Грузинской дороге и через, Стамбул подруги перебрались в Италию, где и жили первые годы эмиграции, разъезжая с концертами по странам Европы. Затем перенесли концертную деятельность за океан, где, как и в Европе, имели положительные рецензии в прессе, выступали в лучших залах (в Нью-Йорке, например, не раз выступали в Карнеги-холле). По образцу В. И. Сафонова проводила твердую линию популяризации рус. музыки при разнообразии программ. С 1929 г. — в США, где с работой, жильем и натурализацией (1933) помог американский меценат Чарлз Ричард Крейн, знакомый В. И. Сафонова еще по Москве (1903). Крейн поддерживал певческое искусство, интересовался рус. духовным пением. В знак благодарности М.В. взяла себе его фамилию в качестве второй (женой Ч. Р. Крейна не была). Окончив в 60-е годы свою концертную деятельность, занялась живописью. Чл. Нац. ассоциации художников. До конца жизни участвовала в выставках. Подготовленная ею монография об отце хранится в Амер. пианистическом архиве.
21 Сафонова, Влена Васильевна (1902—1980) жила в Петрограде до 1917 г., заканчивала гимназический курс в Кисловодске (1919). Вернулась в Петроград (1921). Окончила по живописному факультету Вхутеин (1926), где занималась в студии К.С. Петрова-Водкина. Работая с 1923 г. в области книжной графики, иллюстрировала в основном детскую и юношескую литературу (в общей сложности до 25 книг). В 1928–1935 гг. сотрудничала как художник в журналах «Чиж» и «Еж». Сблизилась с обериутами, особенно с А. И. Введенским, дружба с которым продолжалась до самой его гибели. Вместе с обериутами была ненадолго репрессирована в июне 1932 г. выездной сессией коллегии ОГПУ, но скоро возвращена из курской ссылки (реабилитирована в 1958). В 1936 или 1937 г. перебралась в Москву, чтобы работать над иллюстрациями к «Что я видел» Б. С. Житкова; позже сотрудничала с К. И. Чуковским. «Что я видел» и «Доктор Айболит» переиздавались с ее иллюстрациями многократно. Временами бралась за подвернувшуюся подработку; оформление павильонов ВСХВ (1939—1940), детскую полиграфическую игрушку (1943— 1952). С 1927 г. до послевоенных лет работала как театральный художник (в содружестве с В. В. Дмитриевым, Б. Р. Эрдманом и самостоятельно), участвовала в создании свыше 30 постановок в ведущих театрах страны: МХАТе, Театре им. Станиславского (здесь одно время в штате), Театре сатиры и т. д. С Э. П. Гариным сотрудничала в Театре киноактера и в кинофильме «Синегорье» (художник фильма). Особенное признание получила ее работа над костюмами.
- 61 —
Родилась я в Кисловодске в 1893 г., 5 (18) июля. Когда моему брату Сереже сказали, что у него родилась сестра, — было ему четыре года, — он нарвал в саду белых роз и бросил в мою кроватку. Родители мои хотели, чтобы в Москве крестила меня бабушка Сафонова, а она все из Кисловодска не уезжала до поздней осени, так что было мне уже пять месяцев, я сидела на руках и сама держала свечку. Крестным отцом был Павел Иванович Харитоненко22, большой папин друг, у которого папа крестил сына Ваню, моего ровесника.
Что первое я вспоминаю?
Меня вынесли на руках на балкон (очень страшно: вдруг обвалится). Внизу огни, огни — иллюминация по случаю коронования Николая II. Во время этой же коронации дед мой нес балдахин над царем, палка у него обломилась, и всю тяжесть со своей стороны он вынес на руках. В этом же году он умер от рака печени. В памяти моей от него осталась только седая борода на две стороны, когда он брал меня на руки. Когда он был уже тяжело болен, то любил, когда меня приводили к нему: «Без нее скучно было бы», а бабушка особенно любила меня за то, что у меня широкие брови, «как у дедушки».
Воспоминания затем отрывочны: круглая гостиная в доме Шмидта на Арбатской площади, Никитский бульвар с кустами белой сирени. Я мало помню старших сестер, только Сашу. Она была на семь лет старше меня, и я ее трепетно обожала. Высшим счастьем было, если она снисходила до того, чтобы с нами поиграть, хотя и за ухо дернет и толкнет, — только бы поиграла. Она прекрасно уже играла на рояле, писала стихи, целые романы. У нее была масса увлечений. Девочкой она страшно любила воздушные шары, я нашла в шкапу коробочку с надписью: шар Миша, скончался — и дата. И блестящие стеклянные шары, в которые она любила смотреться.
В тот год, когда отстроилась Консерватория и наша семья переехала туда в новую квартиру, младшие дети — Сережа, Ваня и я — долго оставались у бусеньки в небольшом имении Ильинка под Георгиевском. И тут пришла телеграмма: «Настя больна, выезжайте». Помню все очень резко. И ясное чувство катастрофы (мне шесть лет), и идиотская улыбка, которая точно приклеилась к лицу, — и
22 Харитоненко, Павел Иванович (1852—1914) — московский купец-сахароторговец. В описываемое время (1893) — совладелец торг. дома своего отца И. Г. Харитоненко и, наряду с В. И. Сафоновым, один из шести директоров Моск. отделения Имп. Рус. Муз. об-ва (кандидат в 1885–1888 гг., директор в 1888–1897 гг.). Меценат в области музыкального и изобразительного искусства; купил, в частности, множество работ М. В. Нестерова, который тепло отзывался о нем в своих «Воспоминаниях» (М., 1985). Председатель Об-ва учредителей Румянцевской библиотеки. В особняке П. И. Харитоненко, где многократно бывали Сафоновы, ныне размещается посольство Великобритании.
- 62 —
ничего с ней не поделаешь. Потом вокзал в Москве, темный день, проливной дождь, и молодая мама в трауре бежит нам навстречу и плачет.
В одну неделю умерли и Настя — от воспаления легких, и Саша — от воспаления брюшины.
Повезли нас не домой, а в гостиницу «Дрезден». На этом месте сейчас ресторан «Арагви». А тогда это было мрачное темно-серое здание, с темными коридорами, с темными обоями. Всем не до тебя, и страх, и тоска, и полная растерянность. Сестер еще не похоронили, брата Илюшу отправили к Ипполитову-Иванову, папиному другу; мама только навещала нас. Не знаю, кто был тот добрый человек, который подарил мне игрушку: Ноев ковчег со всеми животными по паре — все деревянное. Это был единственный светлый момент за все это беспросветное время.
А тут Илюша заболел воспалением уха, и глупая наша гувернантка сразу об этом брякнула маме — помню, как мама упала головой на стол и ее рыдания: «Как? И этот?»
Страшные были дни. Долгое время потом я не могла проходить мимо «Дрездена» без сердечного содрогания.
И вот тут еще одно детское и на всю жизнь впечатление. Когда заболела Настя, у папы был назначен концерт в Петербурге, и он не мог его отменить. Ему пришлось туда ехать и дирижировать, зная, что она при смерти, — она и умерла в его отсутствие; тетя Настя была на концерте, зная о ее смерти, и только в поезде сказала об этом отцу. В первый раз я тогда поняла, что такое артистический долг, что такое искусство и какие обязательства оно накладывает на человека. Что бы ни было — он должен. Никакими словами и наставлениями этого не внушить. И отсюда с детства глубокое уважение к отцу.
Если Настя была мамина дочка, то Саша — папина. И, умирая, она просила его стать так, чтобы она могла его видеть.
Долго эта тень лежала на нашей семье, и не знаю, что было бы с мамой, если бы она не ждала в то время рождения сестры Оли. И слезы у нее градом лились, когда она ее пеленала. И помню, как в темной гостиной мама одна поет «Отчего побледнела весной», а у меня сердце сжимается от жалости к ней, потому что я понимаю, о чем она поет и плачет.
- 63 —
Нас перевезли после похорон уже в новую квартиру в Консерватории, и с тех пор я помню все более или менее связно.
Квартира была большая, в два этажа. Внизу детские, классная комната, а за коридором кухня и комната для прислуги. Подъемная машина для посуды и кушаний и винтовая лестница в столовую. Другая лестница вела к спальням родителей и братьев Илюши и Вани и в парадные комнаты.
Из столовой дверь вела в Консерваторию. Из этой-то двери, как с некоего Олимпа, появлялся папа, всегда с кем-нибудь из музыкантов, и сюда мы являлись к завтраку и обеду. Стол был большой, овальный, садилось много народу и видимо-невидимо нас — детей, больших и маленьких: все черные, все похожие на папу — и все разные. Сидели подолгу, что было очень нам трудно. Время за столом было единственным, когда папа видел семью в сборе. Чаще всего бывал Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов, которого мы очень любили. Он то и дело проливал на скатерть красное вино, его засыпали солью — очень интересно смотреть.
Иногда папа, окинув взглядом стол, говорил: «А ну-ка, Аня (или Варя, или Муля), прочитай нам „19-е октября“!» И вот встаешь и начинаешь:
Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
а там такое количество строф — кажется, конца им нет. На тарелке стынет котлета с макаронами, а ты читаешь. Но я и сейчас люблю эти стихи. А старшим братьям и того не легче: они должны были наизусть знать и читать всего «Медного всадника» — и читали.
Перед едой дети по очереди читали «Отче наш», после еды — молитву. Когда стали постарше, старались разнообразить эту повинность. Врат Ваня умудрялся не торопясь, с расстановкой прочитывать «Отче наш» за одно дыхание, и даже не выдыхая, а вдыхая воздух — всё на полном серьезе, чтобы не заметил папа.
- 64 —
Так как я изо всего выросла, то в Кисловодске пошили мне какие-то немыслимые рубашки с лиловыми горохами, одеяло было тоже пестрое, а сестра Варя лежала в белоснежных рубашечках с кружевами под голубым атласным одеялом. Я чувствовала себя дикаркой, а Варя («она маленькая, ты ей должна уступать») объявила, что она не Варя, она Аня, отобрала все мои игрушки — и… Кто же я? Это было просто ужасно.
Еще очень ярко: нас с Варей моют в одной ванне на ножках. Очень много мыльной пены и очень смешно. Обе мы стараемся попасть ногой друг другу в нос. Потом нас несут (кто?), завернув в одеяло, через длинный темноватый коридор. Как странно смотреть сверху — все другое совсем.
Наша детская — очень большая, в три окна комната. Здесь живем мы: Варя, я, Муля и наша гувернантка Людмила Николаевна (Никаша)23. Большой черный стол, под которым очень удобно играть, большой диван, где спит Людмила Николаевна, умывальник за ширмой у печки, наши кроватки. Над диваном полка, на ней икона и голубая лампадка, которая горит всю ночь, и бутылка с красным крестом с сиропом от кашля «Сиролин», это очень вкусно.
Папа и мама на втором этаже. Это уже другой мир. Туда мы приходим утром к завтраку, потом к чаю и к обеду, но живем мы внизу. Я уже читаю. Когда я выучилась читать — не знаю, кажется, на шестом году, но как? Вроде само собой. В Газетном переулке на углу Тверской игрушечная лавка Сафонова — это очень интересно; там продаются сказки в издании Сытина. Книжка — 10 коп., но какая! Какие картинки, какие краски! До сих пор помню «Царевича-лягушку»: сидит у колодца красивая девушка, плачет, а из колодца лезет лягушка, во рту у нее золотой мячик… Надо иметь все сказки именно десятикопеечные. Те, что дороже, — это уже не то.
А по субботам, когда в Консерватории бывали симфонические концерты, из окна нашей классной (довольно унылой комнаты) можно было видеть, как светится на большой лестнице витраж: святая Цецилия играет на органе. Это окно заделано теперь, и на месте его висит худшая из репинских картин — русские композиторы. И каждый
23 Людмила Николаевна Симонова появилась в доме Сафоновых в роли гувернантки ок. 1892 г. в возрасте 24 лет. Воспитывала всех дочерей В. И. Сафонова — от Анастасии до Елены. После революции эмигрировала (кажется, в Швецию).
- 65 —
раз, когда я их вижу, мне жаль, что убрали это поэтическое изображение слепой девушки, погруженной в звуки24.
Мы воспитывались в церковном духе. Каждое воскресенье обязательно было ходить к обедне, в пост — говеть. Все это подчас было обременительно, но придавало жизни какую-то поэтическую окраску. Праздники были совсем особенными днями. К ним готовились все, особенно к Пасхе, во всем доме наводилась чистота и красота.
Какое наслаждение красить яйца! Какой восторг, когда во время пасхальной заутрени открываются запертые двери церкви и выходит крестный ход! И подарки дарили на праздники нам, и мы дарили сами папе и маме непременно что-нибудь, что сделали сами. Подарки получали мы только на Рождество и Пасху все и лично каждый в дни рождения и именин.
Папа был единоверцем, и всех нас крестил единоверческий священник отец Иоанн Звездинский, живший в Лефортове, где была единоверческая церковь25.
Но так как ездить туда было далеко, то по воскресеньям нас водили в ближайшую православную церковь, а в Лефортово возили только раз в год, на вынос плащаницы. С вечера укладывали пораньше, с тем, чтобы разбудить в 11 часов — служба начиналась около 12 ночи (спать, конечно, никакой возможности). Нанималось ландо, туда насыпались дети и садились родители. Холодная ночь ранней весны, спящая Москва необыкновенна. В церкви мужчины стоят отдельно — справа, женщины — слева. Нам повязывают на голову платки: так полагается. Каждому — круглый коврик для земных поклонов. Поклоны кладутся по уставу — все сразу; их очень много, болят спина и колени. Поют по крюкам, напевы древние; иконы — старого письма. Плащаницу выносят на рассвете, крестный ход идет вокруг церкви со свечами. Холодно, знобко и, главное, необычайно, незабываемо. Папа любил это пение и терпеть не мог концертного пения в церкви — вероятно, из-за чувства стиля.
А после службы мы у отца Звездинского пили чай в его маленьком домике близ церкви — какие пироги с гречневой кашей и луком! При доме маленький садик с кустами
24 Св. Цецилия — христианская мученица (погибла ок. 230). Пела псалмы, аккомпанируя себе на арфе. Считается покровительницей музыки. Католическая церковь посвящает ее памяти день 22 ноября. Изображавший ее витраж на главной лестнице МК был разбит взрывной волной при налете немецкой авиации на Москву в октябре 1941 г. (Анна Васильевна об этом не узнала). После войны место бывшего витража закрыли картиной И. Е. Репина «Славянские композиторы». Это одна из ранних работ Репина, написанная им в 1870–1872 гг. для ресторана «Славянский базар» по заказу А. А. Пороховщикова, не позволившего включить в группу, как он выражался, «всякий мусор» — М.П. Мусоргского и А. П. Бородина. На картине нет и П. И. Чайковского. Соединение живых с умершими иЛ групповом портрете вызвало недовольство И. С. Тургенева.
25 Единоверие — течение в старообрядчестве. Возникло в XVIII в. в результате соглашения умеренных кругов старообрядцев с официальной православной церковью, оформленного в 1800 г. До революции подчинялось Синоду, но сохраняло свои обычаи и обряды.
- 66 —
черной смородины и пруд, в котором дочка отца Иоанна купалась ото льда до льда, что нас очень впечатляло.
Мама была тоже религиозный человек. С приятным отсутствием ханжества…
В нашем детском мире — над ним — существовали взрослые. Где-то на Олимпе (в Консерватории) существует папа; он всегда занят, видим мы его только за столом.
Завтрак. Открывается дверь из Консерватории в нашу столовую, входит папа и всегда приводит с собой кого-нибудь. За столом общий разговор — нам лучше помалкивать. Иногда нам капают в воду красное вино, оно не смешивается с водой, а лежит сверху — это «интересное винцо». После завтрака надо подойти к папе, и он дает тебе «копарик» — кусочек сахара из черного кофе. Ах, как вкусно!
Мама — та ближе. Утром она встречает нас в столовой, на ней халат с широкими рукавами, можно залезть туда головой — сердце тает, такая она милая.
Есть еще тетя Настя Кабат, папина сестра. Она живет в Петербурге, и когда приезжает, это праздник, так как она рассказывает сказки из «1001 ночи» в собственной интерпретации. Мы слушаем, затаив дыхание. Она настоящая Шехерезада: всегда прерывает на самом интересном месте — и вдруг уедет. А мы ходим завороженные до другого раза.
Все кругом имело несколько волшебный вид. В почтовом отделении дверь заклеена бумагой под витраж — кто ее знает, куда она ведет? Рядом во дворе лежит груда стеклянных слитков — это плоды из подземного дворца Аладдина. Кто-то таинственный живет в чулане под лестницей — страшновато, но очень интересно. И лучшая игра — волшебная история, где мы попадаем в самые фантастические положения.
Мы — это Варя и я, и братья Сережа и Ваня. Сережа — неистощимый фантазер. Ваня — каверзник, от него всегда можно ждать подвоха. Мы объединяемся то с одним, то с другим братом. Между собой они отчаянно дерутся. Сережа очень добрый, возбудимый и нервный, Ваня толст и музыкален.
- 67 —
Непререкаемый авторитет — старший брат Илюша, его слушают все и очень любят. Он уже почти большой, играет на виолончели, и в сумерках хорошо слушать его игру в гостиной.
Иногда поет мама — когда думает, что одна. У нее прекрасный голос, она закончила Петербургскую консерваторию по классу Эверарди26 и первое время концертировала с папой и виолончелистом Давидовым27, когда они ездили в турне по России. Но десять человек детей и мамина скромность — так мало кто и знал, какая она прекрасная певица. Пела она итальянские вещи, романсы Чайковского и Грига. Нам — детские песни Чайковского, казачью колыбельную, «Как по морю, морю синему» — очень было жалко, когда ястреб убивал лебедушку, и приходилось прятаться за мамину спину, чтобы не было видно, что плачешь.
И все мы пели хором — больше казачьи песни…
Мне не хочется создать впечатление, что мы были идеальные дети: восемь человек детей разного возраста и разных характеров — это была довольно буйная компания. Всего бывало — и ссор, и драк, и бранились мы со зла. Но — и это относится к общему духу семьи — вранье было не в ходу и бездельниками мы не были. Я не помню, чтобы кто-нибудь из нас слонял слонов. И если папа хотел смешать нас с грязью за какой-нибудь проступок, у него не было худших слов: «Это — неуважение к труду». И слушать это было очень стыдно.
Папиного идеала кротости и послушания достичь было невозможно. К этому идеалу приближалась мама. Но, помню, мы говорили ей: «Почему папа хочет, чтобы мы были такими кроткими, — ведь мы же его дети!»
А он был человек крутой и страстный и возбуждал вокруг себя страсти. Были люди, которые его обожали, и Другие — которые его ненавидели: удел всех превышающих средний человеческий уровень. Он постоянно был в разъездах, в турне, вся семья лежала на маме, а нас было восемь человек.
— Я не могу о всех вас сразу беспокоиться, но о ком-нибудь из вас — всегда. Тот болен, у того с ученьем плохо, тот проявляет дурные склонности, эти ссорятся.
26 Эверарди, Камилло (1825—1899) — ит. певец, проф. Петерб. и (с 1896) Моск. консерваторий.
27 Давидов (Давыдов), Карл Юльевич (1838—1889) — виолончелист, композитор, дирижер. Проф. Петерб. консерватории и ее директор (1876—1887) во время учебы там В. И. Сафонова и В. И. Вышнеградской. Несмотря на переезд Сафонова в Москву, их совместные выступления и концертные поездки по стране продолжались до самой кончины Давидова. Василий Ильич считал его своим учителем в муз. ансамбле.
- 68 —
И помимо этого ей приходилось иметь дело со всеми артистами, бывавшими у нас в доме, поддерживать огромное знакомство, вести наш большой дом. Мама была очень тактичный человек. Помню, как она ходила по комнате после оперы Ипполитова-Иванова «Измена»28. Михаила Михайловича она любила, папа был с ним дружен долгие годы, а опера была скучнейшая.
— Ну что я ему скажу? — А сказать было необходимо. Наконец решилась и взяла телефонную трубку. Мы слушали с восхищением:
— Знаешь, мама, это просто фокус — как тебе удалось сказать столько хорошего и при этом нисколько не наврать?
На папиных концертах в Петербурге ей приходилось сидеть в первом ряду с Юлией Федоровной Абаза29, которая ни одного не пропускала. На моей памяти это была уже старая дама в каких-то серых вуалях — настоящая Пиковая Дама, так ее и звали. Она отличалась необыкновенной бесцеремонностью и очень громко высказывала маме свое мнение о выступавших артистах, далеко не всегда лестное. Бедная мама не знала, куда деваться: ведь ей с ними приходилось постоянно иметь дело, а артисты — народ обидчивый. Мы панически боялись этой Абаза — приходилось подходить к ней здороваться, а она что-нибудь да скажет: «Quelle coiffure vous avez m-lle!» или «Je ne savais pas, que votre fille est si jolie»*, отчего хочется немедленно провалиться сквозь землю.
Мама была умница. Помню, как-то мы все сидели за столом и разговаривали. Она слушала, слушала, рассмеялась и сказала:
— Эх вы, даже сплетничать не умеете!
И, правда, сплетни как-то не были в ходу у нас в доме.
Помню, как папа взял меня с собой в заграничную поездку; было мне неполных 16 лет. Ехали мы на пароходе до Стокгольма, потом в Копенгаген и затем к маме в Берлин, где она лечилась. Тут папа и стал вычитывать маме все мои промахи: Аня не умеет себя вести и т. д. Мама с некоторым страхом спросила: «Да что же она такое сдела-
- «0, какая у Вас прическа, мадемуазель!» или «Я не знала, что Ваша дочь такая миленькая» (фр.).
28 Ипполитов-Иванов (наст. фам. — Иванов), Михаил Михайлович (1859—1935) — композитор, педагог, муз. деятель. Проф. МК, ее директор (1906—1918) и ректор (1918—1922). Стал директором после отказа В. И. Сафонова вернуться к этой должности. «Измена» написана в 1908–1909 гг., впервые поставлена в декабре 1910 г. в Опере С. И. Зимина.
29 Абаза (урожд. Штуббе), Юлия Федоровна (1830—1915) — певица, композитор. Будучи фрейлиной вел. кн. Елены Павловны, участвовала вместе с ней и А. Г. Рубинштейном в создании Имп. Рус. Муз. об-ва (1859) и Петерб. консерватории (1862). Почетный чл. ИРМО (1887). Хозяйка муз. салона. Близкая знакомая семьи Ф. М. Достоевского, адресат стихотворения Ф. И. Тютчева «Ю. Ф. Абазе». Была дружна с Ш. Гуно и Ф. Листом. В 1890–1900-е гг. — попечительница приютов для арестантских детей. Жена гос. деятеля А. А. Абазы (1821—1895).
- 69 —
ла?» Кажется, главное мое прегрешение было то, что, когда мы с папой были у русского посла в Копенгагене30, я на его вопрос, учатся ли мои братья в лицее (он был папиным товарищем по лицею), ответила, что мои братья не хотят учиться в привилегированном заведении, что было совершенной правдой. Тут мама вздохнула с облегчением: «Ну, это еще ничего».
Интересная это была поездка. На пристани меня пришел провожать мальчик, в которого я была влюблена, и принес мне большую коробку конфет. Наутро, выйдя на палубу из каюты, я увидала такую картину: на шезлонге лежит папа с самым небрежным видом, рядом на кончике стула сидит какая-то дама и смотрит на него с подобострастным восхищением, а папа скармливает двум детям, которые мне показались омерзительными, мои драгоценные конфеты.
По дороге из Гельсингфорса в Стокгольм папа познакомился с финским композитором Каянусом31, очень красивым человеком с золотой бородкой, и сразу объединился с ним за бутылкой коньяку — так они и просидели в каюте до поздней ночи, пока я смотрела в свете белой ночи на розовые шхеры, поросшие редкими соснами, слушая, как волны от парохода разбиваются о гранитные острова. Это было очаровательно.
Под Стокгольмом острова становятся все выше, все в зелени и в пригородных виллах, очень красивые. Поездили мы с папой по городу, были на какой-то выставке, купили маме какой-то подарок, и день закончился обедом в ресторане (первый раз в моей жизни) — с тем же Каянусом — и цирком, где мы смотрели на львов и казачью джигитовку, — стоило, конечно, для этого ехать в Стокгольм.
Папа вообще любил цирк и дома иногда говорил нам за обедом: «Ну, дети, мы сегодня поедем в цирк Чинизелли!» Мы в восторге. Затем он ложился на диван — на минутку — и закрывался газетой. Увы! Дело часто этим кончалось. А у мамы при виде зверей с укротителем холодел от ужаса нос. Папин любимый анекдот: укротитель кладет голову в пасть льву и спрашивает: «Почтеннейшая публика, лев бьет хвостом?» — «Нет, не бьет». Тогда он вынима-
30 Рус. послом в Копенгагене в 1906–1910 гг. был кн. Иван Александрович Кудашев (1859—1933), который в Александровском лицее не учился. Возможно, имеется в виду второй секретарь посольства Михаил Михайлович Бибиков (окончил лицей в 1898).
31 Каянус, Роберт (1856—1933) — финский композитор и дирижер, один из создателей финской национальной музыки. Организовал в 1882 г. первый в Финляндии симф. оркестр и руководил им до 1932 г. Муз. директор (проф.) Университета в Хельсинки (1897—1926). Широко использовал в своих произведениях народные финские мелодии, а в программных сочинениях — сюжеты нац. фольклора.
- 70 —
ет голову и раскланивается. Но раз публика кричит радостно: «Бьет, бьет!» — «Прощай, почтеннейшая публика!»
В Копенгагене мы были с папой в Тиволи, парке с разными аттракционами (все их перепробовали, папа забавлялся больше меня), в Берлине — в Винтергартене, варьете. Вероятно, это была хорошая разрядка после большой работы и музыки высокого стиля.
Иногда папа любил дразнить маму. Сидим мы все за обедом — вдруг он начинает: «Дети, хотите, я вам расскажу, как мама расставляла мне сети?» Мама в негодовании. «Дело было в Карлсбаде; у Варвары Ивановны очень болела нога, и она все отставала…» Мама: «Василий Ильич!!!» — «Ну, я как вежливый человек, конечно…»
Или другая вариация: «Дети! Хотите, я вам расскажу, как мама мне делала предложение?»
Тот же эффект, продолжения не следует.
Больше всего мама негодовала, видимо, потому, что для этого рассказа имелись веские основания: сестра уже после смерти и отца и мамы нашла в его письменном столе мамино письмо, полностью его подтверждающее.
Или на вокзале. Папа уезжает; мама и все мы стоим на перроне, 2-й звонок, папа стоит на площадке вагона и ждет 3-го. Три удара колокола. Тогда папа спускается с площадки и начинает прощаться с мамой. Поезд трогается. «Васенька, ради Бога», — мама в панике. Папа медленно влезает в вагон, страшно довольный, что напугал.
Так как отец постоянно был в разъездах, то телеграммы были у нас делом самым обычным; из-за границы он любил посылать русский текст латинскими буквами. Помню телеграмму из Лондона в Кисловодск: tuman, syro, saviduju warn — туман, сыро, завидую вам.
Или лаконичное извещение после концерта:
Bonbenerfolg*.
В Петербурге у него был даже условный петербургский адрес для телеграфа: С.-Петербург, Фонофас.
St. Petersbourg, Fonofas**.
- Сногсшибательный успех (нем.).
** Fonofas — обратное чтение фамилии Safonoff
- 71 —
Перед тем, как стать невестой отца, мама была влюблена в Блока (отца Александра Блока)32, который очень за ней ухаживал. Но так как родители были против этого претендента, то и сочли за благо увезти ее подальше от греха и уехали с ней за границу, в Карлсбад. Там она и встретилась с папой и, в конце концов, вышла за него замуж33.
Вероятно, Блок был сильно в нее влюблен, так как потом женился на Бекетовой34, очень похожей на маму. Только та была маленькая, а мама хорошего среднего роста.
Всем нам очень импонировало то, что Александр Блок, в сущности, мог бы быть нашим братом, — в дни нашей молодости он был властителем дум нашего поколения, хотя лично с ним никто из нас знаком не был.
Зато с его двоюродным братом35 мы были знакомы. Увы, он был глухонемой — и какое же было мучение танцевать с человеком, который не слышит музыки!
У папы была какая-то особая дружба с братом Сережей. Мальчик он был очень своеобразный, ко всему подходил со своей меркой. Даже арифметические задачи решал совершенно необычным (очень запутанным) способом.
Отца просто обожал — не по музыкальной линии. Кажется, один из всех нас обладал полным отсутствием слуха. Папа бился долго, чтобы выучить его петь нефальшиво арию мельника из «Русалки»: «Да, стар и шаловлив я стал. Какой я мельник — я ворон!» И это был единственный мотив в его жизни, который он мог повторить. Зато все стихи, которых он знал множество, выбирая с безупречным вкусом, он пел, перелагая на какую-то дикую мелодию, чем изводил окружающих.
Папа очень хотел, чтобы Сережа отбывал воинскую повинность в казачьих войсках. Отец никогда не переставал чувствовать себя коренным казаком — он и числился казаком станицы Кисловодской (по месту жительства, переводясь из станицы Ищерской). Но брат категорически отказался, потому что «в случае революции казачьи части могут послать на усмирение». Так и отбывал повинность в драгунском Нижегородском полку в Тифлисе, с
32 Блок, Александр Львович (1852—1909) — отец поэта А. А. Блока, юрист и философ.
33 Возможно, мы имеем здесь дело с семейным мифом. По воспоминаниям М. А. Бекетовой (тетки поэта А.А. Блока), отъезд В. И. Вышнеградской в бытность ее студенткой консерватории за границу связан с ухаживанием за ней Николая Георгиевича Мотовилова. Студент-юрист Н. Мотовилов был сыном Георгия Николаевича Мотовилова (1834— 1880) — известного судебного деятеля 1860-х годов, первого председателя Петерб. окружного суда. «Вскоре стало известно, — вспоминает М.А. Бекетова, — что Мотовилов — жених Вари Вышнеградской, но это довольно скоро расстроилось, так как отцу невесты, очень консервативному деятелю, к тому же сильно приверженному к земным благам, вовсе не нравился жених из либеральной семьи, да еще без состояния. Словом, их разлучили, увезя за границу Варю, которая впоследствии вышла замуж за известного дирижера В. И. Сафонова». (Шахматове. Семейная хроника. — «Лит. наследство». М., 1982, т. 92, кн. 3, с. 738; о судьбе Н. Мотовилова, после первого брака женившегося на девушке, которую он находил похожей на разошедшуюся с ним жену, см. там же, с. 740—741). В пользу версии М. А. Бекетовой говорит и то, что две другие дочери И. А. Вышнеградского были им выданы за людей достаточно высокого общественного и материального положения: муж Софьи Ивановны, Николай Иванович Филипьев (1852—?), стал действительным тайным советником, директором Международного коммерческого банка в Петербурге, а муж Натальи Ивановны, Василий Сергеевич Сергеев (? —1910), — рус. посланником в Стокгольме.
34 Бекетова (в первом браке — Блок, во втором — Кублицкая-Пиот-тух), Александра Андреевна (1860—1923) — мать поэта А. А. Блока, переводчица и детская писательница. В. И. Вышнеградская ок. 1880 г. была ее подругой и часто пела в доме Бекетовых во время субботних вечеров.
35 Здесь в рукописи оставлено место для имени. Имеется в виду, видимо, Кублицкий-Пиоттух Андрей Адамович (1886—1960) — сын тетки поэта Софьи Андреевны Кублицкой-Пиоттух (урожд. Бекетовой) (1857— 1919).
- 72 —
ним же пошел на войну 14-го года. Он и погиб на этой войне.
Необыкновенной честности был человек. Летом 15-го года я виделась с ним в последний раз в Петрограде; он ехал на Западный фронт с Кавказа, уже офицером, переведясь в пехотный полк из кавалерии. Когда я спросила его, почему он это сделал, он ответил: «Видишь ли, в пехоте большая убыль офицеров; кроме того, я думаю, что у меня недостаточно быстрое соображение, чтобы командовать кавалерийской частью, — я могу подвести своих людей».
Через два месяца он умер от ран, не сознавая, что умирает, по дороге в Петроград, куда его эвакуировали. Все говорил, что приедет к нему сестра сейчас же (я). Рассказывал мне об этом ехавший с ним товарищ, тоже раненый. Мы вдвоем с отцом встречали на вокзале его гроб — все остальные из семьи были в Кисловодске.
Мне кажется, что именно с этих дней у папы стали такие печальные глаза, что мы видим на последних портретах. Он не плакал — по крайней мере, на людях.
И я помню, как на панихиде в полку, где служил брат, он спросил: шел ли полк в наступление? (Брат был ранен стоя, в живот.)
Совсем недавно мне рассказывали, как папа провожал брата на фронт еще в самом начале войны и, вернувшись, сказал: «Вот я дожил до счастливого дня, когда мой сын идет защищать родину». У него это была не фраза, так он думал и чувствовал.
И мама… Весной 15-го года она уехала в Кисловодск красивой пожилой женщиной, а вернулась в Петроград после смерти брата маленькой старушкой.
Есть фотография, снятая на Кисловодском вокзале: встреча гроба с телом брата — он похоронен в Кисловодске, там же, где дед и бабушка и где потом были похоронены отец и мама, недолго его пережившие.
Тело брата привез его вестовой, живший после этого некоторое время у нас в семье. После революции он писал маме: «Как Сережа был бы рад!»
В 23-м году я вернулась в Москву, жила с братом Илюшей в его комнате. Ни у него, ни у меня денег не было, а музыку очень хотелось слушать. Вот мы и ходили к ко-
- 73 —
менданту Консерватории за контрамарками на концерты. Это был старый знакомый: он был раньше монтером в Консерватории и приходил к нам проводить на елку цветные лампочки, а с его детьми мы играли во дворе, устраивали бега на приз — апельсин.
Очень был милый человек. Когда я в первый раз пришла к нему, он стал рассказывать, как в начале революции снял и спрятал для сохранности все портреты — теперь они висели на старых местах. Он поглаживал их рукой и говорил: «Вот Василий Ильич был бы доволен, похвалил бы меня».
Папы уже не было в живых, но он помнил, как заботливо папа относился к внешнему виду Консерватории.
С АЛЕКСАНДРОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ КОЛЧАКОМ
Остается так мало времени: мне 74 года. Если я не буду писать сейчас — вероятно, не напишу никогда. Это не имеет отношения к истории — это просто рассказ о том, как я встретилась с человеком, которого я знала в течение пяти лет, с судьбой которого я связала свою судьбу навсегда.
Восемнадцати лет я вышла замуж за своего троюродного брата С. Н. Тимирева36. Еще ребенком я видела его, когда проездом в Порт-Артур — шла война с Японией — он был у нас в Москве. Был он много старше меня, красив, герой Порт-Артура. Мне казалось, что люблю, — что мы знаем в восемнадцать лет! В начале войны с Германией у меня родился сын37, а муж получил назначение в штаб командующего флотом адмирала Эссена38. Мы жили в Петрограде, ему пришлось ехать в Гельсингфорс. Когда я провожала его на вокзале, мимо нас стремительно прошел невысокий, широкоплечий офицер.
Муж сказал мне: «Ты знаешь, кто это? Это Колчак-Полярный. Он недавно вернулся из северной экспедиции»39.
У меня осталось только впечатление стремительной походки, энергичного шага.
Познакомились мы в Гельсингфорсе, куда я приехала на три дня к мужу осмотреться и подготовить свой переезд с ребенком.
36 Тимирев, Сергей Николаевич (1875—1932) — контр-адмирал (1917). Из семьи военного моряка. Окончил Морской кадетский корпус (1895), два года плавал в Средиземном море и Тихом океане младшим штурманом на крейсере «Россия». Затем зачислен в Гвардейский экипаж, где состоял до 1911 г. Участник Русско-яп. войны, служил на броненосцах «Пересвет» и «Победа», награжден золотой саблей «За храбрость» (1907). Тяжело ранен в Порт-Артуре на Высокой горе накануне сдачи крепости. Попав в японский плен, отказался дать подписку о дальнейшем неучастии в войне и оставался в плену до заключения мира. В 1906–1907 гг. — пом. ст. офицера на эскадренном броненосце «Цесаревич» — флагманском корабле 1-го Гвардейского отряда. В этой должности началась его работа по воспитанию будущих офицеров флота, неожиданно прерванная назначением на имп. яхту «Штандарт», где Сергей Николаевич прослужил ст. офицером почти четыре года (1907—1910).
Женился на А. В. Сафоновой в 1911 г. В ноябре–декабре того же года Тимиревы совершили свадебное путешествие по Франции.
Приближение весны 1914 г. Сергей Николаевич встретил в должности командира учебного судна «Верный» (1912—1915), входившего в состав отряда судов Мор. корпуса. Перед самым началом войны на борту корабля плавало около ста кадетов одной из средних рот. За несколько дней до объявления войны отряду Мор. корпуса было приказано прекратить учебную работу. «Верный», как не боевое судно, был отправлен в Кронштадт, где до декабря 1914 г. нес дозорную и брандвахтенную службу.
«Об этом „тыловом“ периоде войны у меня сохранилось самое мрачное воспоминание: с одной стороны — совершенно бессмысленная, хотя и тяжелая служба; с другой — сознание того, что там, впереди, идет живая, интересная работа, о которой мы знали только по слухам да по рассказам офицеров с приходящих изредка с „передовых позиций“ боевых судов — чаще всего заградителей, приходивших за свежим запасом мин. Мучительнее всего были мысли о своей „незадаче“, т. е. о том, что война застала меня, все же боевого офицера с неплохим прошлым, командиром никуда не годного в боевом отношении корабля… Пока же я, скрепя сердце и совестясь смотреть в глаза родным и знакомым, а еще более приезжим с фронта и с передовых позиций моим товарищам и старым сослуживцам, пользовался всеми привилегиями тыловой жизни и частенько бывал в Петербурге, где жила моя семья и недавно родился сын. „Замерзнув“ со своим кораблем в Кронштадте, я даже пытался перевестись в Петербург», — вспоминал позже С. Н. Тимирев (Тимирев С. Н. Воспоминания морского офицера. М., 1993, с. 13). В последних числах декабря 1914 г. он получил предложение занять место флаг-капитана по распорядительной части в штабе Балтфлота и, хотя «питал органическое отвращение к штабной службе», согласился, рассчитывая получить со временем в свое командование боевой корабль. 6 января 1915 г. Сергей Николаевич отправился в Гельсингфорс, и в тот день на вокзале, как об этом пишет чуть ниже Анна Васильевна, она впервые увидела Колчака, оказавшегося в поезде спутником ее мужа. Колчак служил в том же штабе и тоже флаг-капитаном, но только по оперативной части. По пути в Гельсингфорс, где на крейсере «Россия» размещался в то время штаб командующего Балтийским флотом, он ввел своего нового сослуживца в курс дел.
Колчак и Тимирев были знакомы, можно сказать, со школьной скамьи. В Мор. корпусе Колчак был старше одним выпуском; в последний год его учебы оба состояли в одной роте; Колчак — фельдфебелем, Тимирев — унтер-офицером. Во время обороны Порт-Артура сначала оба служили на военных кораблях и в мае 1904 г. должны были участвовать в одной рискованной экспедиции, в разработке которой и тот и другой принимали участие (отменена командующим). Последний период осады и Сергей Николаевич и Александр Васильевич провели на сухопутных позициях, часто встречались. При сдаче крепости оба оказались в госпиталях и попали в плен. Теперь, в 1915–1916 гг., судьба связала их еще теснее и сложней…
Летом 1916 г., вскоре после назначения Колчака на Черное море, Тимирев стал командиром крейсера «Баян», входившего в состав 1-й бригады крейсеров Балтфлота, которая базировалась в Ревеле. Эта бригада крейсеров, по мнению Тимирева, по духу и дисциплине была одной из лучших частей Балтфлота, уступавшей в этом отношении лишь Минной дивизии. Семья Тимирева (жена и сын) перебралась в Ревель.
В середине октября 1917 г. Тимирев произведен в контр-адмиралы «за отличия в делах против неприятеля» и почти одновременно вступил в командование 1-й бригадой крейсеров.
После октября вышел в отставку, был командирован на Дальний Восток, эмигрировал. Жил в Шанхае, последние десять лет своей жизни плавал на судах Китайского коммерческого флота. По его собственному свидетельству, «это был единственный случай, когда китайским пароходом командовал русский адмирал».
В Шанхайском Союзе служащих в Российской армии и флоте возглавлял, будучи старшим по званию, группу морских офицеров, базирующихся на Шанхай. В мае 1929 г. (по его инициативе и на его квартире) группа преобразована в Кают-компанию, в которой он первые два года председательствовал; однако, все время плавая и редко появляясь в Шанхае, Сергей Николаевич счел необходимым передать председательские обязанности следующему по старшинству контр-адмиралу. Летом 1929 г. на очередной «чашке чая» познакомил Кают-компанию со своими воспоминаниями, завершенными еще в 1922 г. Позже они изданы под названием «Воспоминания морского офицера. Балтийский флот во время войны и революции (1914–1918 гг.)» (Нью-Йорк, 1961). Значительные отрывки оттуда, под названием «Адмирал без пенсии», опубликованы в Москве в газете «Голос Родины» (1991, № 10 и 11), в 1993 г. вышли отдельной книгой в изд-ве «Авнар». Цитируем их по этому источнику.
Умер Сергей Николаевич 31 июня 1932 г. в Шанхае от рака горла.
Примерно через четверть века после его смерти В. В. Романов писал Анне Васильевне, что С. Н. Тимирев в эмиграции «жил нежной мыслью о сыне своем», радовался тому, что сын оказался «не в потерявшей русское лицо эмиграции», а остался в России, где он «будет полезен».
37 Тимирев, Владимир Сергеевич (1914—1938) родился 4 октября 1914 г. Домашнее имя Одя (от «Володя»). Первые годы после отъезда родителей на Дальний Восток (1918) провел в Кисловодске, в 1922 г. перевезен оттуда матерью в Москву. Закончил 24-ю школу в Хамовниках, учился в Строительно-конструкторском техникуме при Высшем инженерно-строительном училище (1929—1931), затем в Моск. архитектурно-конструкторском ин-те (1931—1933); одновременно посещал учебный курс в мастерской художника А. С. Кравченко. В 1933–1938 гг. — штатный художник в Загорском научно-экспериментальном ин-те игрушки, где делал, в частности, эскизы анималистич. игрушек. С нач. 30-х годов выполнял также художественные работы по отдельным заказам (сотрудничал в газете «Вечерняя Москва», оформлял детскую книжку «Киш, сын Киша» Дж. Лондона, рисовал сельскохоз. животных для учебных пособий). Единственная прижизненная персональная выставка — в 1934 г.; тогда же работы его получили высокую оценку в профессиональной периодике (журн. «Творчество», 1934, № 6). В 1935 и 1937 гг. ездил на Каспий в составе научной экспедиции на судах научно-промысловой разведки, изучал планктон Каспийского моря; устроителем этих поездок был микробиолог Я. А. Бирштейн, с братом которого — М. А. Бирштейном, художником, — Одя учился вместе в техникуме. Работы В. С. Тимирева, сделанные им во время первой поездки, экспонировались на специальной выставке. По некоторым сведениям, в 30-е годы пытался завязать переписку с заграницей (с отцом?).
Арестован в Москве в марте 1938 г.; при обыске, сопутствовавшем аресту, изъяты шпага, кинжал и кремневый пистолет. В протоколе допроса от 24 марта адмирал Колчак фигурирует как его «отчим», и дальше: «Я лично к нему никакого отношения не имел». Обвинен по ст. 58, п. 6, УК РСФСР. Осужден к ВМН 17 мая, расстрелян 28 мая 1938 г.
Реабилитирован в 1957–1958 гг. после целой серии запросов матери о его судьбе. В архивно-следственном деле предпоследний документ, в котором указаны даты приговора и расстрела, завершается фразой: «Считал бы правильным сообщить о крупозном воспалении легких» (подписал капитан Корнеев; завизировали, если можно так выразиться, подполковник Фадеев и полковник Логинов). Финальный документ дела, датированный февралем 1957 г., — справка о том, что «Тимирев В.С. умер от крупозного воспаления легких 17.02.43 в ИТЛ».
В последнее время имя его упоминают среди молодых талантов 30-х годов («Панорама искусств». М., 1981, № 4, с. 323). В 1983 г. в Доме художника в Москве проведен вечер памяти В. С. Тимирева; к вечеру там же была подготовлена выставка его работ. Работы Владимира Сергеевича экспонировались на выставках «Художники первых пятилеток» (Москва, 1979), «Памяти жертв сталинских репрессий» (Москва, 1989), на двух выставках, привезенных в Москву Художественным музеем из Нукуса. В нукусском музее находятся свыше 100 его работ, в Пермской художественной галерее — ок. 15, две куплены Музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, несколько — научно-информационным просветительским центром «Мемориал» (Москва); работы В.С. хранятся в Ин-те игрушки (Сергиев Посад).
38 Эссен, Николай Оттович, фон (1860—1915) — адмирал (1913). Окончил Мор. училище (1881) и механич. отдел Николаевской Мор. академии (1886). Участник Русско-яп. войны. Командовал различными военными кораблями (1897—1906), Минной дивизией эск. миноносцев Балт. Моря (1906—1908), а затем (1908—1915) Балтфлотом. Немец по происхождению, держался англо-французской ориентации. Много сделал для подготовки флота к выполнению программы боевых действий, созданной на случай войны с Германией.
«По своему нравственному облику — истинный воин без страха и упрека… в адмирала Эссена все верили; я не помню ни одного адмирала — пожалуй, кроме Макарова, — который бы пользовался такой популярностью среди офицеров и команд, как Эссен» (Тимирев С. Н. Цит. соч., с. 10).
39 В описываемое время были живы еще два Колчака, служивших в рус. военном флоте: Александр Федорович (при обороне Порт-Артура — капитан 1-го ранга, позже — контр-адмирал в отставке; двоюродный дядя А.В. Колчака) и его сын, Александр Александрович (в Русско-яп. войну — мичман; погиб в Балтийском море в 1915).
О полярных исследованиях Колчака см. в общем предисловии к книге, где использованы (с сокращением) наши примечания к первой публикации «Фрагментов воспоминаний» А. В. Книпер; в примечаниях к предисловию — краткая библиография.
- 74 —
Нас пригласил товарищ мужа Николай Константинович Подгурский40, тоже портартурец. И Александр Васильевич Колчак был там. Война на море не похожа на сухопутную: моряки или гибнут вместе с кораблем, или возвращаются из похода в привычную обстановку приморского города. И тогда для них это праздник. А я приехала из Петрограда 1914–1915 годов, где не было ни одного знакомого дома не в трауре — в первые же месяцы уложили гвардию. Почти все мальчики, с которыми мы встречались в ранней юности, погибли. В каждой семье кто-нибудь был на фронте, от кого-нибудь не было вестей, кто-нибудь ранен. И все это камнем лежало на сердце.
А тут люди были другие — они умели радоваться, а я уже с начала войны об этом забыла. Мне был 21 год, с меня будто сняли мрак и тяжесть последних месяцев, мне стало легко и весело.
Не заметить Александра Васильевича было нельзя — где бы он ни был, он всегда был центром. Он прекрасно рассказывал, и, о чем бы ни говорил — даже о прочитанной книге, — оставалось впечатление, что все это им пережито. Как-то так вышло, что весь вечер мы провели рядом. Долгое время спустя я спросила его, что он обо мне подумал тогда, и он ответил: «Я подумал о Вас то же самое, что думаю и сейчас».
Он входил — и все кругом делалось как праздник; как он любил это слово! А встречались мы нечасто — он был флаг-офицером по оперативной части в штабе Эссена и лично принимал участие в операциях на море, потом, когда командовал Минной дивизией, тем более41. Он писал мне потом: «Когда я подходил к Гельсингфорсу и знал, что увижу Вас, — он казался мне лучшим городом в мире».
К весне я с маленьким сыном совсем переехала в Гельсингфорс и поселилась в той же квартире Подгурского, где мы с ним встретились в первый раз. После Петрограда все мне там нравилось — красивый, очень удобный, легкий какой-то город. И близость моря, и белые ночи — просто дух захватывало. Иногда, идя по улице, я ловила себя на том, что начинаю бежать бегом.
Тогда же в Гельсингфорс перебралась и семья Александра Васильевича — жена42 и пятилетний сын Славуш-
40 Анна Васильевна, несомненно, имеет в виду Подгурского Николая Люциановича (1877-1918) — капитана 1-го ранга (1914), который в начале войны командовал броненосным крейсером «Россия», а с мая 1915 г. — дивизией подв. лодок Балтфлота. П. — участник Русско-яп. войны, в 1904–1905 гг. получил пять орденов и золотое оружие «За храбрость».
41 Краткие сведения о деятельности Колчака на Балтфлоте (до зимы 1914/15) см. в общем предисловии к книге.
Летом 1915 г. по инициативе Колчака в Рижский залив был введен линкор «Слава», а вдоль занятого немцами побережья залива была осуществлена постановка мин со спец. мелкосидящих заградителей, переделанных из речных колесных буксиров. В результате этих действий герм. армия, наступавшая на Ригу, осталась без поддержки флота. В сентябре–ноябре 1915 г., после того как командующий Минной дивизией контр-адмирал П. Л. Трухачев получил травму и выбыл из строя, Колчак заменил его, развив бурную деятельность. Ему были подчинены все мор. силы в Рижском заливе. В том же, 1915 г. разработал и осуществил совместно с командующим 12-й армией Р.Д. Радко-Дмитриевым операцию по срыву нем. наступления на Ригу, произвел десант в тылу противника на Рижском побережье. В ноябре 1915 г. совершил удачный набег на Виндаву. Вступил в постоянное командование Минной дивизией. В конце мая 1916 г., действуя в отряде под командой Трухачева и командуя тремя миноносцами типа «Новик», участвовал в экспедиции к шведским берегам, когда было потоплено пять судов противника. За действия против караванов герм. торговых судов (везших гл. обр. руду из Швеции и сопровождавшихся военным конвоем) награжден орденом Св. Георгия IV степени.
«Он был создан для службы на миноносцах, это была его стихия. Колчак неоднократно говорил своим друзьям, что венцом его желаний всегда было получить в командование Минную дивизию: он чувствовал, что там он будет на месте, и о большем не мечтал. Его оперативные замыслы, связанные с миноносцами, всегда были неожиданны, смелы и рискованны, но в то же время ему всегда сопутствовало счастье; однако это не было слепое счастье, а своего рода предвидение, основанное на охотничьей верности глаза и привычке к успеху. Его молниеносные налеты на неприятельские транспорты в шведских водах, атаки на неприятельские ми- яоносцы, самые смелые постановки мин под носом немцев можно было сравнить с лихими кавалерийскими набегами или атаками» (Т и м и-р е в С. Н. Цит. соч., с. 36-37).
Дополнительный материал читатель найдет в кн.: Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть-хроника. С.-Петербург, 1993.
42 Колчак (урожд. Омирова), Софья Федоровна (1876—1956) — жена А. В. Колчака с 1904 г. Родилась в Каменец-Подольске, где ее отец, Федор Васильевич Омиров, был начальником Казенной палаты и в поел. годы жизни фактически управлял Подольской губернией. Ф. В. Омиров — сын подмосковного священника, ученик и друг М. Н. Каткова и акад. Грота. Мать С. Ф., Дарья Федоровна, урожд. Каменская, сестра скульптора Ф. Ф. Каменского, среди далеких своих предков числила барона Мини-ха (брата фельдмаршала, елизаветинского вельможу) и генерал-аншефа М. В. Берга (разбившего Фридриха Великого в Семилетнюю войну). С. Ф. Омирова — воспитанница Смольного ин-та. Знала семь языков; французским, немецким и английским владела превосходно. Имела от Колчака трех детей, из которых младшая, Маргарита, прожила совсем мало (1913—1915). Жила в Гатчине, затем в Либаве. После обстрела Либавы немцами в начале войны (2 августа 1914) бежала, бросив все, кроме нескольких чемоданов; казенная квартира Колчака была затем разгромлена, и имущество семьи погибло. Дочь умерла в Гатчине, где, видимо, какое-то время жила и Софья Федоровна. Переехала вслед за мужем в Гельсингфорс, затем в Севастополь. При красных, переправив сына в более безопасное место, осталась в Севастополе, скрываясь под чужим именем в семьях моряков.
7 февраля 1919 г. С. С. Погуляев писал Колчаку в Омск из Парижа: «Среди правительственных лиц с совершенно особым чувством симпатии и уважения к Тебе относится нач[альник] Мор[ского] Генерального] Шт[аба] vice admiral de Bon, который по первому моему слову телеграфировал в С (евастопо]ль, чтобы жене Твоей внесли 2000 руб. Я телеграфировал Тебе и ей об этом. Тебе я передал ее телеграмму, из которой мог судить о ее стесненном положении. Хорошо было бы, если бы Ты написал ему два слова благодарности» (ГА РФ, ф. Р-341, оп. 1, д. 752, лл. 128-129).
В апреле 1919 г. С. Ф. Колчак выехала в Бухарест на англ. военном корабле. Затем, соединившись с сыном (см. примеч. 43), переехала во Францию, где прожила оставшуюся часть жизни. Умерла в госпитале Лонжюмо под Парижем.
- 75 —
ка43. Они остановились пока в гостинице, и так как Александр Васильевич бывал у нас в доме, то он вместе с женой сделал нам визит. Нас они не застали, оставили карточки, и мы с мужем должны были ответить тем же. Мы застали там еще нескольких людей, знакомых им и нам.
Софья Федоровна Колчак рассказывала о том, как они выбирались из Либавы, обстрелянной немцами, очень хорошо рассказывала. Это была высокая и стройная женщина, лет 38, наверно. Она очень отличалась от других жен морских офицеров, была более интеллектуальна, что ли. Мне она сразу понравилась, может быть, потому, что и сама я выросла в другой среде: мой отец был музыкантом — дирижером и пианистом, семья была большая, другие интересы, другая атмосфера. Вдруг отворилась дверь, и вошел Колчак — только маленький, но до чего похож, что я прямо удивилась, когда раздался тоненький голосок: «Мама!» Чудесный был мальчик.
Летом мы жили на даче на острове Бренде под Гельсингфорсом, там же снимали дачу и Колчаки. На лето все моряки уходили в море, и виделись мы часто, и всегда это было интересно. Я очень любила Славушку, и он меня тоже. Помню, я как-то пришла к ним, и он меня попросил: «Анна Васильевна, нарисуйте мне, пожалуйста, котика, чтоб на нем был красный фрак, а из-под фрака чтоб был виден хвостик», а Софья Федоровна вздохнула и сказала: «Вылитый отец!»
Осенью как-то устроились на квартирах и продолжали часто видеться с Софьей Федоровной и редко с Александром Васильевичем, который тогда уже командовал Минной дивизией, базировался в Ревеле (Таллин теперь) и бывал в Гельсингфорсе только наездами. Я была молодая и веселая тогда, знакомых было много, были люди, которые за мной ухаживали, и поведение Александра Васильевича не давало мне повода думать, что отношение его ко мне более глубоко, чем у других.
Но запомнилась одна встреча. В Гельсингфорсе было затемнение — война. Город еле освещался синими лампочками. Шел дождь, и я шла по улице одна и думала о том, как тяжело все-таки на всех нас лежит война, что сын мой еще такой маленький и как страшно иметь еще ребен-
43 Колчак, Ростислав Александрович (1910—1965) — сын А.В. Колчака. В 1918 г. мать отправила его из Севастополя к себе на родину, в Каменец-Подольск, к подругам детства, полячкам. В 1919 г. при содействии начальника англ. военной миссии в Румынии был вывезен из Каменец-Подольска, бывшего тогда в руках «зеленых», через Хотин, Ставучаны, Черновцы в Бухарест, откуда вместе с матерью, С. Ф. Колчак, выехал во Францию.
Последней просьбой адмирала Колчака перед расстрелом было: «Я прошу сообщить моей жене, которая живет в Париже, что я благословляю своего сына». — «Сообщу», — ответил руководивший расстрелом чекист С. Г. Чудновский (Чудновский С. Конец Колчака. — В кн.: Годы огневые. Годы боевые. Сб. воспоминаний. Иркутск, 1961, с. 209).
В 1931 г. Р. А. Колчак закончил Высшую школу дипломатических в коммерческих наук (Париж), принят на службу в банк во франц. колонии. В 1933 г. у него родился сын Александр. Приведем два абзаца из семейной хроники, написанной Р.А. Колчаком:
«Выше было упомянуто, что отец адмирала, Василий Иванович Колчак, издал в 1904 году книгу «Война и плен». Так вот эти «война» и «плен» повторялись в его семье из поколения в поколение. Какой-то рок приводит старших сыновей его ветви быть вовлеченными в большие военные катастрофы. Как турецкий генерал его пращур был при разгроме турок под Ставучанами захвачен в плен в Хотине, Василий Иванович был ранен и захвачен в плен при штурме Малахова кургана французами. Его сын, Александр Васильевич, контужен и взят в плен в Порт-Артуре японцами, а сын адмирала, Ростислав, мобилизованный во французскую армию в 1939 году, был взят в плен германцами с остатками 103-го пехотного полка 16 июня 1940 года, после боев, начавшихся на бельгийской границе и закончившихся на Луаре, при разгроме французских военных сил и взятии Парижа.
Так из рода в род жены должны спасать детей из горящих городов, от бомбардировок, голода, грабежей, расстрелов… По-видимому, разорение, бегство в чужие страны, изгнание, перемена подданства, языка и даже веры — явления нормальные…» (Колчак Р. А. Адмирал Колчак. Его род и семья (из семейной хроники). — «Военно-ист, вестник». Париж, 1960. № 16).
- 76 —
ка, — и вдруг увидела Александра Васильевича, шедшего мне навстречу. Мы поговорили минуты две, не больше; договорились, что вечером встретимся в компании друзей, и разошлись. И вдруг я отчетливо подумала: а вот с этим я ничего бы не боялась — и тут же: какие глупости могут прийти в голову! И все.
Но где бы мы ни встречались, всегда выходило так, что мы были рядом, не могли наговориться, и всегда он говорил: «Не надо, знаете ли, расходиться — кто знает, будет ли еще когда-нибудь так хорошо, как сегодня». Все уже устали, а нам — и ему и мне — все было мало, нас несло, как на гребне волны. Так хорошо, что ничего другого и не надо было.
Только раз как-то на одном вечере он вдруг стал усиленно ухаживать за другой дамой, и немолодой, и некрасивой, и даже довольно неприятной, а мне стал рассказывать о ее совершенствах. И тогда я ему рассказала сказку Уэллса о человеке, побывавшем в царстве фей. Человек поссорился со своей невестой и с горя заснул на холме. Проснулся он в подземном царстве фей, и фея полюбила его, — а он ей рассказывал о своей невесте, о том, как они купят зеленую тележку и будут в ней разъезжать и торговать всякой мелочью, и никак не мог остановиться. Тогда фея поцеловала и отпустила его, и он проснулся на том же холме. Но он никак не мог забыть того, что видел, невеста показалась ему топорной, все было не так. И попасть обратно в подземное царство ему уже не удалось44. Рассказала я в шутку, но он задумался.
И все шло по-прежнему: встречи, разговоры — и каждый раз радость встречи.
Был как-то раз вечер в Собрании, где все дамы были в русских костюмах, и он попросил меня сняться в этом костюме и дать ему карточку. Портрет вышел хороший, и я ему его подарила. Правда, не только ему, а еще нескольким близким друзьям. Потом один знакомый сказал мне: «А я видел Ваш портрет у Колчака в каюте». — «Ну что ж такого, — ответила я, — этот портрет не только у него». — «Да, но в каюте Колчака был только Ваш портрет, и больше ничего».
Потом он попросил у меня карточку меньшего размера, «так как большую он не может брать с собой в походы».
44 Имеется в виду один из «Странных рассказов» Уэллса — «М-р Скельмерсдэль в Царстве Фей» (Уэллс Г. Д. Собр. соч. в 9 тт. СПб., 1914, т. 1. с. 211-228).
- 77 —
Так прошли 1915 и 1916 годы до лета. Сыну моему было почти два года, я на даче жила вместе с моим большим другом Евгенией Ивановной Крашенинниковой и ее детьми45, у сына была няня, и решила я съездить на день своего рождения к мужу в Ревель — 18 июля. На пароходе я узнала, что Колчак назначен командующим Черноморским флотом и вот-вот должен уехать46.
В тот же день мы были приглашены на обед к Подгурскому и его молодой жене. Подгурский сказал, что Александр Васильевич тоже приглашен, но очень занят, так как сдает дела Минной дивизии, и вряд ли сможет быть. Но он приехал. Приехал с цветами хозяйке дома и мне, и весь вечер мы провели вдвоем. Он просил разрешения писать мне, я разрешила. И целую неделю мы встречались — с вечера до утра. Все собрались на проводы: его любили.
Морское собрание — летнее — в Ревеле расположено в Катринентале. Это прекрасный парк, посаженный еще Петром Великим в честь его жены Екатерины. Мы то сидели за столом, то бродили по аллеям парка и никак не могли расстаться.
Я пишу урывками, потому что редко остаюсь одна, потому что надо писать со свежей головой, а не тогда, когда уже устанешь от всякой бестолковой домашней работы, от всего, что на старости лет наваливается на плечи. Живешь двойной жизнью — тем, что надо, необходимо делать, и тем, о чем думаешь. Но был ли день за мои долгие годы, чтоб я не вспоминала то, что было мною прожито с этим человеком!
Мне было тогда 23 года; я была замужем пять лет, у меня был двухлетний сын. Я видела А.В. редко, всегда на людях, я была дружна с его женой. Мне никогда не приходило в голову, что наши отношения могут измениться. И он уезжал надолго; было очень вероятно, что никогда мы больше не встретимся. Но весь последний год он был мне радостью, праздником. Я думаю, если бы меня разбудить ночью и спросить, чего я хочу, — я сразу бы ответила: видеть его. Я сказала ему, что люблю его. И он ответил: «Я не говорил Вам, что люблю Вас». — «Нет, это я говорю: я всегда хочу Вас видеть, всегда о Вас думаю, для
45 Крашенинникова (урожд. Грюнберг), Евгения Ивановна — жена капитана 2-го (позже 1-го) ранга Петра Ильича Крашенинникова (1880— 1951). Их дети — Мария (род. 1908) и Сергей (род. 1911). Перед Первой мировой войной семья Крашенинниковых жила в Кронштадте, в 20-е годы — в Шанхае. После Второй мировой войны Е. И. Крашенинникова находилась в США.
46 Колчак назначен командующим флотом Черного моря приказом от 28 июня 1916 г. Одновременно произведен за отличия по службе в вице-адмиралы (был контр-адмиралом с 10 апреля 1916 г.).
Обстоятельства назначения Колчака в Черноморский флот и праздник в Ревельском Морском собрании, где собрались Подгурскмй, Непенин, Тимирев и Колчак, описаны несколько иначе С. Н. Тимиревым (см.: Цит. соч., с. 54—55).
- 78 —
меня такая радость видеть Вас, вот и выходит, что я люблю Вас». И он сказал: «Я Вас больше чем люблю». И мы продолжали ходить рука об руку, то возвращаясь в залу Морского собрания, где были люди, то опять по каштановым аллеям Катриненталя.
Нам и горько было, что мы расстаемся, и мы были счастливы, что сейчас вместе, — и ничего больше было не нужно. Но время было другое, и отношения между людьми другие — все это теперь может показаться странным и даже невероятным, но так оно и было, из песни слова не выкинешь.
Потом он уехал. Провожало его на вокзале много народу. Мы попрощались, он подарил мне фотографию, где был снят в группе со своими товарищами по Балтийскому флоту. Вот и конец. Будет ли он писать мне, я не была уверена. Другая жизнь, другие люди. А я знала, что он увлекающийся человек.
Вернулась и я в Гельсингфорс, на дачу на острове Бренде, где я жила вместе с семьей Крашенинниковых. Там же жила его семья. Все как было, только его не было.
Недели через две вечером все мы сидели на ступеньках террасы. На этот раз мой муж и муж Е. И. Крашенинниковой были у нас наездом. Вдруг подошел огромного роста матрос Черноморского флота в сопровождении маленькой горничной С. Ф. Колчак. Александр Васильевич не знал даже моего адреса на даче. Матрос передал мне письмо и сказал, что адмирал просит ответа.
Эффект был необычайный.
Письмо было толстое, времени было мало. Я даже не успела прочитать его как следует. Написала несколько строк и отдала их матросу. Письмо я прочту позже — сейчас мой муж возвращался на корабль, я должна была его проводить. Но скрыть того, как я счастлива, было невозможно, я просто пела от радости и не могла остановиться. Вернувшись, я стала читать письмо. Оно начиналось со слов: «Глубокоуважаемая Анна Васильевна» и кончалось «да хранит Вас Бог; Ваш А. В. Колчак». Он писал его несколько дней — в Ставке у царя, потом в море, куда он вышел сразу по приезде в Севастополь, преследуя и обстреливая немецкий крейсер «Бреслау»47.
47 Приказ прибыть в Ставку Колчак получил одновременно с назначением в Черноморский флот. Через Петроград отправился в Могилев, где явился к генералу М. В. Алексееву и затем к Николаю II, которые объяснили ему трудности ситуации, связанные с предстоящим вступлением Румынии в войну, и определили главную задачу — разработку (в двух вариантах) и осуществление Босфорской операции, намеченной на весну 1917 г. Хотя вся военная работа Колчака была связана с Балтикой, именно он, по общему мнению Ставки, более других подходил для подготовки Удара на Константинополь.
Прибыв в Севастополь, Колчак 6 июля принял Черноморский флот от вице-адмирала А. А. Эбергарда. Ближайшей задачей было обезопасить транспорты для снабжения Кавказской армии (их главной базой был Новороссийск), побережье и порты от набегов герм. крейсеров «Гебен» и «Вреслау», действовавших под турецким флагом, а также от подводных лодок. Как только Колчак поднял свой флаг и вступил в командование, было принято радио о выходе «Бреслау» из Босфора. С рассветом 7 июля Колчак вышел в море, взяв «Императрицу Марию» и несколько др. кораблей. Встретив «Бреслау», шедший на Новороссийск, заставил его повернуть, преследовал, подверг обстрелу. Это был первый и последний выход неприятельского крейсера в Черное море за время командования Колчака. Через несколько дней минные суда под непосредственным руководством Колчака осуществили заграждение Босфора минами, закрыв вход как надводным, так и подводным судам. «Гебен», подорвавшийся вскоре на этих заграждениях, не смог больше выйти в море до конца войны. Организовав дозорную службу для поддержания минных заграждений, удалось обезопасить море от проникновения в него новых неприятельских военных судов.
- 79 —
И это письмо пропало, как все его письма. Он писал о задачах, которые поставлены перед ним, как он мечтает когда-нибудь опять увидеть меня. Тон был очень сдержанный, но я была поражена силой и глубиной чувства, которым было проникнуто письмо. Этого я не ожидала, я не была самоуверенной.
На другой день я встретилась в знакомом доме с С. Ф. Колчак и сказала ей, что получила очень интересное письмо от Александра Васильевича. Впрочем, она это знала, так как письмо пришло не по почте, а одновременно с письмом, которое получила она, — с матросом. Мы продолжали видеться на даче, и сын Александра Васильевича — шести лет — сказал мне: «Знаете, Анна Васильевна, мой папа обстрелял „Бреслау“, но это не значит, что он его потопил». Впрочем, это был последний рейс «Бреслау» в Черном море — выход из Босфора был заминирован так, что это было уже невозможно48.
Письма приходили часто — дня через три, то по почте, то с оказией через Генеральный штаб, где работал большой друг мой В. Романов49, приезжавший в командировки в Гельсингфорс. Однажды он мне сказал: «Что же из всего этого выйдет?» Я ответила, что он же привозит письма не только мне, но и жене Александра Васильевича. «Да, — сказал он, — но только те письма такие тоненькие, а Ваши такие толстые».
А С. Ф. Колчак собиралась ехать в Севастополь. Жили они очень скромно, и ей надо было многое сделать и купить, чтобы к приезду иметь вид, соответствующий жене командующего флотом. Мы много вместе ходили по магазинам, на примерки.
Она была очень хорошая и умная женщина и ко мне относилась хорошо. Она, конечно, знала, что между мной и Александром Васильевичем ничего нет, но знала и другое: то, что есть, очень серьезно, знала больше, чем я. Много лет спустя, когда все уже кончилось так ужасно, я встретилась в Москве с ее подругой, вдовой контр-адмирала Развозова50, и та сказала мне, что еще тогда С. Ф. говорила ей: «Вот увидите, что Александр Васильевич разойдется со мной и женится на Анне Васильевне». А я тогда об этом и не думала: Севастополь был далеко, ехать я туда не со-
48 В период службы на Черноморском флоте Колчак был занят, кроме блокады Босфора, борьбой с оставшимися на море и с отдельными прорывавшимися в него неприятельскими миноносцами, канонерскими и подв. лодками. Кроме того, на Колчака были возложены дела вновь образованной Дунайской военной флотилии. Неудачи на Румынском фронте к нач. 1917 г. привели к тому, что возможным стал лишь один вариант Босфорской операции — десантный. В непосредственное распоряжение Колчака поступила специально сформированная для этой цели Черноморская пехотная дивизия, возглавлявшаяся генералом А. А. Свечиным и полковником А. И. Верховским. Интенсивная подготовка Босфорского десанта продолжалась до весны 1917 г.
49 Романов, Владимир Вадимович (1876—1962) — в то время ст. лейт. флота (с 1916 г. капитан 2-го ранга), работник МГШ. Окончил Мор. кадетский корпус (1895, в одном выпуске с С. Н. Тимиревым). В 1905 г. отправился учиться за границу, где окончил Горную академию во Фрайбурге (Саксония); стал инженером-металлургом, специалистом по медеплавильному производству. Перед Первой мировой войной находился в отставке по флоту, занимался предпринимательской деятельностью. Уральский горнопромышленник, директор правлений нескольких акционерных обществ (Кыпггымских горных заводов, Южно-Уральского горнопромышленного, «Кровля», «Медь»). Летом 1918 г. — в Киеве, затем (1918—1919) в Крыму. Заболев сыпным тифом, «застрял» в Сов. России и работал на Севере (съемки на о. Диксон) (1920—1921), жил некоторое время в Сибири (Енисейск, Чита). В начале 20-х эмигрировал сначала в Сербию и Англию, затем обосновался во Франции. Участвовал в работе эмигрантского Военно-исторического кружка (Париж). Входил в совет старейшин Всезарубежного объединения морских организаций. В престарелом возрасте добывал себе средства уроками, техническими переводами, реферированием научной литературы.
50 Развозов, Александр Владимирович (1879—1920) — капитан 1-го ранга (декабрь 1915), затем (1917) контр-адмирал. Окончил Мор. кадетский корпус (1898). Участник Русско-яп. войны. Командовал различными эсминцами. Во время войны с Германией — нач. 2-го дивизиона эск. миноносцев Балтфлота, а после отставки Д. Н. Вердеревского от должности — командующий Балтфлотом (июль–декабрь 1917). Власть большевиков Развозов считал сначала недолговечной и на заседании Центробалта 19 ноября заявил: «Признавать буду ту власть, которая будет выдвинута Учредительным собранием», однако на следующий день вместе со своим штабом подчинился управляющему Мор. министерства М. В. Иванову и был представлен Цуггробалтом к производству в вице-адмиралы. Оставался на посту командующего флотом до 5 декабря, когда сама его должность и штаб были упразднены, а высшее руководство Балтфлотом принял на себя Военный отдел Центробалта. Недолгое время (12—20 марта 1918) после восстановления должности командующего возглавил морские силы Балтфлота; его преемником стал А. М. Щасный. Арестован и увезен в Петроград. Вскоре выпущен. В сентябре 1919 г. вновь арестован чекистами в Петрограде по обвинению в военном заговоре. Находился в заключении в «Крестах». 14 июня 1920 г. умер в тюремной больнице от аппендицита. Похоронен на Смоленском кладбище в Петрограде.
Его вдова — Мария Александровна Развозова (урожд. фон дер Остен-Дризен) (1887-1968).
- 80 —
биралась, но жила я от письма до письма, как во сне, не думая больше ни о чем.
Осенью С. Ф. уехала с сыном в Севастополь, а мы переехали в Ревель. Жили мы в самом Вышгороде, снимая квартиру в доме барона Розена, откуда был широкий вид на весь Ревель, порт и Катриненталь. Каждый день я выходила навстречу почтальону, иногда он говорил мне извиняющимся тоном: «Сегодня письма нет». Вероятно, все было написано у меня на лице. В эту зиму у нас бывало много народу, но, когда все расходились, я выходила одна на узенькие улицы Вышгорода, садилась на скамейку у Дом-кирхе и долго сидела, глядя, как звезды переползают с ветки на ветку деревьев. Хотела забыть шум, болтовню, песни, и знала, что приду домой, перечитаю последнее письмо и буду писать ответ, и очень была счастлива.
Осенью 16-го года на рейде Севастополя произошел взрыв на броненосце «Императрица Мария»51. Я была тогда в Петрограде, письмо получила через штаб.
Уже по почерку на конверте я привыкла видеть, какого рода будет письмо, — тут у меня сердце сразу упало. Александр Васильевич писал о том, как с момента первого взрыва он был на корабле. «Я распоряжался совершенно спокойно и, только вернувшись, в своей каюте, понял, что такое отчаяние и горе, и пожалел, что своими распоряжениями предотвратил взрыв порохового погреба, когда все было бы кончено. Я любил этот корабль, как живое существо, я мечтал когда-нибудь встретить Вас на его палубе». Он был совершенно потрясен этим несчастьем.
Отчего это произошло, так это и осталось неизвестным — тогда, но корабль погиб.
Вскоре я встретилась с адмиралом Альтфатером52, который говорил, что Колчак совершенно не в себе, может говорить только о гибели «Императрицы Марии» и вообще… Альтфатер рассчитывал по этому поводу на назначение командующим Черноморским флотом, чего нельзя было не понять. Но этого не произошло.
1916 год шел к концу. Все больше накалялась атмосфера. На фронте война шла плохо, в тылу — Распутин. Потом — убийство Распутина. Слухи, слухи…
В начале февраля 1917 г. мой муж, С. Н. Тимирев, получил отпуск, и мы собирались поехать в Петроград —
51 Первый линейный корабль Черноморского флота «Императрица Мария» построен в Николаеве (1913—1915) в соответствии с программой обновления Черноморского флота, принятой Советом министров в дек. 1910 г. После ввода в строй (лето 1915) был самым сильным кораблем Черноморского флота. Погиб утром 7 октября 1916 г. на Северном рейде Севастополя в результате пожара под носовой башней, повлекшего за собой 25 взрывов боевых снарядов (первым же из них столб пламени и дыма взметнуло вверх на 300 м). Колчак руководил работами по затоплению погребов трех др. башен и по локализации пожара. Этими мерами были спасены рейд и город, однако после последнего (более сильного, чем предыдущие) взрыва корабль опрокинулся и затонул. Погибло до 300 человек (включая скончавшихся в госпитале в ближайшие недели). Комиссия, рассматривавшая причины пожара, не установила их с полной достоверностью, но указала «на сравнительно легкую возможность приведения злого умысла в исполнение при той организации службы, которая имела место на погибшем корабле» (Крылов А. Н. Гибель линейного корабля «Императрица Мария». — В его кн.: Воспоминания и очерки. М., 1949, с. 338). Колчаку приписывают слова: «Как командующему мне выгоднее предпочесть версию о самовозгорании пороха. Как честный человек я убежден: здесь диверсия» (Е л к и н А. С. Арбатская повесть. М., 1987, с. 141). Автор «Арбатской повести» утверждает: в 1933 г. ОГПУ выяснило, что диверсия была осуществлена под руководством герм. разведчика В. Вермана, но сведения об этом не были обнародованы. Корабль поднят в 1916–1917 гг. и разобран к 1927 г. В 1931 г. вышла кн.: Есютин Т. В. Гибель корабля «Императрица Мария» (М.—Л.), представляющая собой воспоминания моряка Черноморского флота.
По существовавшим на флоте нормам, такая катастрофа должна была повлечь за собой снятие командующего флотом. Однако, по инициативе мор. министра И. К. Григоровича, решение о Колчаке как о командующем Черноморским флотом было отложено до конца войны.
52 Альтфатер, Василий Михайлович (1883—1919) окончил Мор. кадетский корпус (1902) и Николаевскую Мор. академию по гидрографическому отделению (1908). Участник Русско-яп. войны, затем служил на Балтфлоте, в штабе фон Эссена (флаг-капитан по оперативной части), и в МГШ. Во время войны представитель ВМФ, потом нач. Военно-морского управления при главнокомандующем Сев. фронтом, контр-адм. (1917). Перешел на сторону сов. власти, стал первым (15 октября 1918) командующим мор. силами Республики. Колчак говорил о нем: «…он был скорее монархистом. Мечтой Альтфатера было флигель-адъютантство, он к этому и шел, т. к. имел большие связи при Ставке. И тем более меня удивляет его перекраска в такой форме… Я всегда считал Альтфатера карьеристом…» (Допрос Колчака, с. 101—102).
- 81 —
т. е. мой муж, я и мой сын с няней. Но в поезд сесть нам не удалось — с фронта лавиной шли дезертиры, вагоны забиты, солдаты на крыше. Мы вернулись домой и пошли к вдове адмирала Трухачева53, жившей в том же доме, этажом ниже. У нее сидел командующий Балтийским флотом адмирал Адриан Иванович Непенин54. Мы были с ним довольно хорошо знакомы. Видя мое огорчение, он сказал: «В чем дело? Завтра в Гельсингфорс идет ледокол „Ермак“, через 4 часа будете там, а оттуда до Петрограда поездом просто». Так мы и сделали.
Уже плоховато было в Финляндии с продовольствием, мы накупили в Ревеле всяких колбас и сели на ледокол. Накануне отъезда я получила в день своих именин55 от Александра Васильевича корзину ландышей — он заказал их по телеграфу. Мне было жалко их оставлять, я срезала все и положила в чемодан. Мороз был лютый, лед весь в торосах, ледокол одолевал их с трудом, и вместо четырех часов мы шли больше двенадцати. Ехало много женщин, жен офицеров с детьми. Многие ничего с собой не взяли — есть нечего. Так мы с собой ничего и не привезли.
А в Гельсингфорсе знали, что я еду, на пристани нас встречали — в Морском собрании был какой-то вечер. Когда я открыла чемодан, чтобы переодеться, оказалось, что все мои ландыши замерзли. Это был последний вечер перед революцией.
В Петроград мы приехали в двадцатых числах февраля56 в квартиру моих родителей. Уже не хватало хлеба, уже по улицам шли толпами женщины, требуя хлеба, разъезжали конные патрули, не зная, что с этими толпами делать, а те, встречая войска, кричали: «Ура!» Неразбериха была полная. Ясно было одно: что надвигаются грозные события. В эти дни я несколько раз бывала в Государственной Думе. Последний раз после разных речей вышел Керенский и сказал: «Вы тут разговариваете, а рабочие уже вышли на улицу», и пошло.
Моя сестра Оля училась в это время в театральной студии Мейерхольда. Ставился «Маскарад» Лермонтова в Александрийском театре57, все студийцы участвовали как миманс — сестра тоже. Несмотря на то что на улицах было уже очень неспокойно, мы все поехали на генеральную репетицию. Состояние было невыносимо тревожное, но как
53 Трухачев, Петр Львович (1867-1916?) — контр-адмирал (1915). Окончил Мор. училище (1887) и Мор. учебно-стрелковую команду (1894). Участник Русско-яп. войны. Командовал Минной дивизией, выдвинутой (1915) в Рижский залив и защищавшей его. Осенью 1915 г. по болезни временно (сент.—окт.) был заменен Колчаком. С декабря 1915 г. — нач. 1-й бригады крейсеров Балтфлота.
Его вдова — Трухачева Елизавета Александровна (урожд. Мосолова, по первому браку — Хёльстрём).
54 Непенин, Андриан (Адриан) Иванович (1871—1917) — вице-адмирал (1916). Окончил Мор. корпус (1892). Участник Русско-яп. войны. Начальник службы связи Балт. моря (с июля 1914), организовал на Балтфлоте службу наблюдения и связи с использованием радиотехнический средств. Одним из первых в рус. флоте оценил значение морской авиации как нового средства разведки. Командующий Балтфлотом с сентября 1916 г. Пытался суровыми мерами поднять дисциплину на флоте. Накануне падения самодержавия телеграфировал в Ставку о необходимости пойти навстречу Думе; после Февраля сразу же заявил о переходе на сторону Гос. Думы и Временного правительства. Отставлен матросами от должности и убит.
В начале февраля 1917 г. он на один день приехал из Гельсингфорса в Ревель на ледоколе «Ермак». Тимирев принял его предложение, «хотя одолжаться Непенину было не очень приятно» (отношение С. Н. к Непе-нину было резко отрицательным).
55 День именин Анны — 3 (16) февраля.
56 Тимиревы прибыли в Гельсингфорс около 8 февраля и едва ли не на следующий день отправились в Петроград. По воспоминаниям С. Н. Тимирева, они поселились не у Сафоновых, а в прежней своей квартире. Около 15 февраля С. Н. поехал в деревню, откуда через 10 дней вернулся в Петроград. Если Анна Васильевна ездила с ним, то ее слова насчет приезда «в двадцатых числах февраля» следует отнести к этому повторному приезду.
57 Премьера «Маскарада» в Александрийском театре состоялась 25 февраля 1917 г.
- 82 —
только началась музыка, и в прорези занавеса начали двигаться маски — такова волшебная сила искусства, — все, все забывалось — до той минуты, когда кончалось действие. И тогда снова ужасное состояние. Таким я запомнила этот спектакль, может быть лучший из всех, которые я видела в жизни.
А на улицах уже постреливали. Революция — Февральская — шла полным ходом. Мой муж срочно уехал в Ревель на корабль, которым тогда командовал. В Гельсинг-форсе был убит адмирал Непенин — убит зверски, убито несколько знакомых мне офицеров58. В Кронштадте — тоже59. Что в Ревеле—неизвестно60. Что в Севастополе — неизвестно61.
Царь отрекся за себя и сына, его брат Михаил Александрович тоже. На улицах стрельба. К нам приходили с обыском, искали оружие — взяли дедовский кремневый пистолет и лицейскую шпагу отца.
Мы ехали во Владивосток — мой муж, Тимирев, вышел в отставку из флота и был командирован Советской властью туда для ликвидации военного имущества флота. Брестский мир был заключен, война как бы окончена.
В Петрограде голод — 50 гр. хлеба по карточкам, остальное — что достанешь. А в вагоне-ресторане на столе тарелка с верхом хлеба. Мы его немедленно съели; поставили другую — и ее тоже. И по дороге на станциях продают невиданные вещи: молоко, яйца, лепешки. И все время — отчего нельзя послать ничего тем, кто остался в Петрограде и так голодает?
Была весна, с каждым днем все теплее; и полная неизвестность, на что мы, в сущности, едем, что из всего этого выйдет. А события тем временем шли своим ходом: начиналась гражданская война, на Дону убит Корнилов62, восстание чешских войск, следующих эшелонами на восток63. В вагоне с нами ехала семья Крашенинниковых, наши друзья; еще какая-то девушка, с которой я подружилась, ехала в Харбин к родителям; два мальчика-лицеиста. Остановки долгие, города, незнакомые мне, все было интересно, все хотелось посмотреть. Мы, где возможно, сходи-
58 Гельсингфорс был главной базой Балтфлота. 28 февраля 1917 г. Непенин сообщил по командам о забастовке и беспорядках в Петрограде и о переменах в Совете министров. Вечером 3 марта в Гельсингфорсе произошло восстание на линкоре «Андрей Первозванный», были убиты нач. 2-й бригады линейных кораблей контр-адмирал А. К. Небольсин и два старших офицера в Свеаборгской крепости. 4 марта восстание разрослось, и Непенин телеграфировал М. В. Родзянко: «Балтийский флот как боевая сила сейчас не существует. Бунт почти на всех судах». Митингуя на Соборной площади, матросские делегаты объявили об отставке Непе-нина и избрали новым командующим А. С. Максимова. Непенин был арестован на борту флагманского судна «Кречет»; когда его вели в арестный дом через ворота Свеаборгского порта, он был встречен враждебной толпой и убит выстрелом. Это послужило началом «офицерского погрома» 4 марта, когда с офицерами в Гельсингфорсе и крепости расправлялись на улице, причем гибли не только «тираны», но и случайные люди.
59 Беспорядки в Кронштадте начались 28 февраля 1917 г. забастовкой на пароходном заводе. Поздно вечером на улицы стали выходить части гарнизона, поддержанные матросами учебного минного отряда. К утру 1 марта город оказался в руках восставших. За ночь было убито ок. 50 офицеров, расстрелянных у рва за памятником вице-адмиралу С. О. Макарову на Якорной площади, св. 200 офицеров арестовано. По всему Кронштадту распространились самосуды, грабежи, захваты винных складов. Главный комендант порта и генерал-губернатор Кронштадта адмирал Р. Н. Вирен был заколот штыками на Якорной площади утром 1 марта. во В Ревеле не произошло таких массовых кровавых расправ, как в Гельсингфорсе и Кронштадте. 2 марта разрослась забастовка, начавшаяся накануне, и весь день рабочие и матросы демонстрировали по улицам. Днем разгромили тюрьму; адмирал А. М. Герасимов, поехавший для переговоров, был ранен, а нач. тюрьмы и несколько человек из населения убиты. До конца дня продолжали громить суды, тюрьмы, полицейские околотки, выпустили всех арестантов. Вечером 3 марта избрали Ревельский Совет рабочих и военных депутатов, а 6 марта — флотский комитет, занявшийся установлением нового внутреннего распорядка в мор. и береговых командах. 9 марта приказ об организации Ревельского местного флотского комитета подписали нач. 1-й бригады крейсеров контр-адмирал В. К. Пилкин и нач. дивизиона подв. лодок контр-адмирал Д. Н. Вердеревский; в докладной записке в ГМШ они высказали уверенность в том, что налицо взаимное доверие начальников и подчиненных и обоюдное признание ими их прав: «Нет никакого основания опасаться того, чтобы команды не повиновались нам в военном отношении…» (Революционное движение в России после свержения самодержавия. Док-ты и мат-лы. М., 1957, с. 658).
60 В Ревеле не произошло таких массовых кровавых расправ, как в Гельсингфорсе и Кронштадте. 2 марта разрослась забастовка, начавшаяся накануне, и весь день рабочие и матросы демонстрировали по улицам. Днем разгромили тюрьму; адмирал А. М. Герасимов, поехавший для переговоров, был ранен, а нач. тюрьмы и несколько человек из населения убиты. До конца дня продолжали громить суды, тюрьмы, полицейские околотки, выпустили всех арестантов. Вечером 3 марта избрали Ревельский Совет рабочих и военных депутатов, а 6 марта — флотский комитет, занявшийся установлением нового внутреннего распорядка в мор. и береговых командах. 9 марта приказ об организации Ревельского местного флотского комитета подписали нач. 1-й бригады крейсеров контр-адмирал В. К. Пилкин и нач. дивизиона подв. лодок контр-адмирал Д. Н. Вердеревский; в докладной записке в ГМШ они высказали уверенность в том, что налицо взаимное доверие начальников и подчиненных и обоюдное признание ими их прав: «Нет никакого основания опасаться того, чтобы команды не повиновались нам в военном отношении…» (Революционное движение в России после свержения самодержавия. Док-ты и мат-лы. М., 1957, с. 658).
61 На Черноморском флоте события поначалу развивались менее драматично. Об этом см. письма А. В. Колчака к А. В. Тимиревой и комментарии к ним.
62 Корнилов, Лавр Георгиевич (1870—1918) — генерал от инфантерии (1917), верх. главнокомандующий (июль–август 1917). В ноябре 1917 г. бежал на Дон, где вместе с М. В. Алексеевым сформировал Добровольческую армию; стал ее главкомом. Убит 13 апреля 1918 г. на пятый (последний) день неудачного штурма Екатеринодара.
63 Организация и деятельность Чехословацкого корпуса (ЧСК) была частью чехосл. легионерского движения, целью которого было достижение независимости страны через победу над центр, державами. «Рус. легион», как чехословаки называли свои военные части в России, был по сравнению с другими («Американским», «Английским», «Французским», «Итальянским» и «Сербским» легионами) наибольшим. Легионерским движением руководил из Парижа Чехословацкий национальный совет, филиал которого после Февраля возник в Киеве и был признан Временным правительством в качестве единственного представителя чехов и словаков в России.
Осн. часть ЧСК составили бывшие военнопленные. Поначалу оставался частью рус. армии (подчинение, старшие командиры, язык приказов).
25 января 1918 г. Т. Г. Масарик провозгласил ЧСК автоном. частью Чехосл. армии во Франции. Была поставлена цель — перебросить ЧСК на франц. театр воен. действий через Сибирь. После заключения УНР сепаратного мира (27 января 1918) и последовавшего за ним вступления герм. войск на территорию Украины ЧСК покинул Украину, но Брестский мир (3 марта) затруднил ему продвижение через Россию на Зап. фронт. Попытки сов. властей использовать ЧСК в боевых действиях не только против немцев, но и против войск УНР, стремление разоружить ЧСК, наталкивавшееся на желание чехословаков вывезти с собой максимум оружия, задержки эшелонов, столкновения с немцами и венграми из бывших военнопленных, коммунистич. агитация, взаимное недоверие сов. правительства и руководства ЧСК привели к взрыву. 23 мая 1918 г. съезд ЧСК в Челябинске постановил не сдавать оружия и пробиваться к Владивостоку. 25 чая в Мариинске произошло первое вооруженное столкновение сов. войск с ЧСК. В тот же день Л. Д. Троцкий отдал приказ о том, что каждый чехословак, которого найдут вооруженным на железнодорожной линии, «должен быть расстрелян на месте», если же вооруженный чехословак окажется в эшелоне, то он «должен быть выброшен из вагона и заключен в лагерь для военнопленных» (см.: Клеванскии А. Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. М., 1965, с. 208); эта телеграмма была перехвачена командованием ЧСК. Отразив первые нападения на свои эшелоны (Марьяновка, Иркутск, Златоуст) и перейдя в наступление, ЧСК овладел всей Сибирской (а также Алтайской) дорогой.
Быстрота, с какой рухнула на огромных территориях сов. власть, образование новых правительств (Сибирь, Самара, Владивосток, Екатеринбург), ориентировавшихся на прежних союзников и желавших обновить фронт против большевиков и немцев, возбудили надежды, и с согласия Антанты осн. часть ЧСК вернулась к Волге и Уралу для военных действий. Отсутствие ожидаемой поддержки со стороны союзников и русских, внутр. кризис в ЧСК и изменение политической обстановки в Европе и Сибири побудили ЧСК оставить антибольшевистский фронт в конце 1918 г. 1 февраля 1919 г. ЧСК переименован в Чехосл. армию в России (ЧСА).
- 83 —
ли с поезда, бежали смотреть все, что можно. В Иркутске встретились с нашими попутчиками, которые давно искали случая познакомиться, да не знали как.
А в Иркутске задержка — началось восстание в Черемховских копях, никого дальше не пропускают. Тут-то эти мальчики и пригодились. Уж не знаю, как им удалось организовать совершенно липовую китайско-американскую миссию и получить под нее вагон. Состав этой миссии был по их выбору — все мы туда попали. Время было фантастическое.
И вот мы едем по Амурской колесухе, кое-как построенной каторжниками, по Шилке64. Красиво, дух захватывает. Вербная неделя, на станциях видим, как идут по гребням холмов со свечками люди со всенощной. Мы опять, я и девушка Женя, побежали смотреть город. Красивее расположенного города я не видела — на стыке Амура и Шилки65. А город пестрый, то большие дома, то пустыри, по улицам ходят свиньи — черт знает что такое. И тут я повстречалась с лейтенантом Рыбалтовским66. Когда-то он плавал под командой моего мужа, мы были знакомы, даже приятели. «Что вы здесь делаете?» — «Да как-то так попал. Вот хочу перебраться в Харбин». — «Зачем?» — «А там сейчас Колчак»67.
Не знаю: уж, вероятно, я очень переменилась в лице, потому что Женя посмотрела на меня и спросила: «Вы приедете ко мне в Харбин?» Я, ни минуты не задумываясь, сказала: «Приеду».
Страшная вещь — слово. Пока оно не сказано, все может быть так или иначе, но с той минуты я знала, что иначе быть не может.
Последнее письмо Александра Васильевича — через Генеральный штаб — я получила в Петрограде вскоре после Брестского мира. Он писал, что, пока не закончена мировая война, он не может стоять в стороне от нее, что за позорный Брестский мир Россия заплатит страшной ценой — в чем оказался совершенно прав. Был он в то время в Японии. Он пошел к английскому послу лорду Грею68 и сказал, что хочет участвовать в войне в английской (союзной России) армии. Они договорились о том, что Александр Васильевич поедет в Месопотамию, на турецкий фронт, где продолжались военные действия.
64 Амурская колесная дорога («Колесуха») соединяла Хабаровск с Благовещенском (ок. 2000 км). Построена исключительно арестантским трудом, строилась беспрерывно летом и зимой (1898—1909). Свыше тысячи арестантов, участвовавших в строительстве, размещались в лагерях, которые устраивались и ликвидировались по мере хода работ. «Примера подобного сооружения, по его грандиозности, по тем затруднениям, с которыми сопряжена была прокладка дороги в пустынной, почти незаселенной и малодоступной местности, еще не было в тюремной практике других государств. Достаточно сказать, что арестованным пришлось не только сделать своим трудом все, что требовалось для дороги со всеми ее станционными и мостовыми сооружениями, на протяжении нескольких сотен верст, но раньше того расчистить леса, провести временные пути сообщения, устроить жилища и организовать водоснабжение, доставку одежды, пищи и всех других материалов и запасов, при отсутствии возможности делать закупки на месте работ» (из доклада Главного тюремного управления, 1900. — Цит. по: Сиб. Сов. Энц., т. I. М., 1929, стлб. 101). «Колесуху» выделяли не столько масштабы принудительного труда (на строительстве Амурской железной дороги — до 7 тыс. каторжников), сколько всесторонность его использования, полная изоляция лагерей, беззаконие и высокая смертность. Арестанты были разбиты на десятки, связанные круговой порукой на случай побега: один «политик» на девять уголовных.
Вопрос об использовании опыта «Колесухи» в ГУЛАГе, насколько нам известно, еще ждет своих исследователей.
65 Имеется в виду Благовещенск. Вербная неделя в 1918 г. приходилась на 22–28 апреля; таким образом, упомянутое автором выше по тексту восстание чехосл. войск произошло уже после того, как Анна Васильевна проехала по Сибирской магистрали.
66 Рыбалтовский, Борис Николаевич (1887—?) — лейтенант флота, плавал в 1907 г. под начальством С. Н. Тимирева на «Цесаревиче». Во время войны с Германией служил на Балтфлоте.
67 Колчак 7 июня 1917 г. телеграфировал Керенскому о своей отставке и в тот же день был вызван в Петроград. Свыше месяца прожил в столице, ожидая окончательного решения правительства. Принял предложение Гленона о командировке в США, рассчитывая участвовать в намечавшейся Дарданелльской операции. Через Швецию и Норвегию прибыл в Англию, затем на англ. крейсере выехал в Галифакс и оттуда в Нью-Йорк и Вашингтон. Поделившись с союзниками опытом, накопленным в ходе командования Черноморским флотом, узнал об отмене Дарданелльского десанта и решил вернуться в Россию. Отплыл из Сан-Франциско в Иокогаму. Здесь получил сведения об Октябрьском перевороте, а затем о переговорах в Брест-Литовске и перемирии, которое (а тем более заключенный вслед за ним мир) воспринял как полное подчинение Сов. России Германии. Желая продолжать борьбу с прежним неприятелем, обратился с просьбой о принятии на службу в англ. армию. Просьба была удовлетворена, и Колчак был направлен в Бомбей, где ему надлежало получить более точные указания о назначении на Месопотамский фронт. В январе 1918 г. отбыл из Японии, но доехал только до Сингапура, откуда, в силу изменившейся обстановки в Месопотамии (рус. части бросили фронт) и ввиду просьбы русского посланника в Китае кн. Н. А. Кудашева о возвращении Колчака, был отозван в Пекин, где Кудашев информировал его о сложившейся обстановке и послал его в Харбин для организации рус. вооруж. сил в полосе отчуждения КВЖД. В Пекине Колчак был выбран членом нового правления КВЖД. Прибыл в Харбин в апреле 1918 г.
Подробности — в письмах А. В. Колчака к А. В. Тимиревой и в комментариях к ним.
68 Ошибка памяти. Имеется в виду сэр Конингем Грин (1844—1934) — англ. дипломат. Посланник в Швейцарии (1901—1905), Румынии (1905— 1910), Дании (1910-1912). Посол в Японии (1912-1919).
Ошибка Анны Васильевны легко объяснима: она назвала похожую фамилию другого англ. дипломата, бывшего в то время министром иностр. дел (сэр Эдуард Грей).
- 84 —
Но события принимали другой оборот. В Харбине тогда царь и бог был генерал Хорват69 — формировались воинские части против Советской власти — Александр Васильевич решил посмотреть на месте, что там происходит. Так он оказался в Харбине.
В последнем письме он писал, что, где бы я ни была, я всегда могу о нем узнать у английского консула и мои письма будут ему доставлены. И вот мы во Владивостоке. Первое, что я сделала, — написала ему письмо, что я во Владивостоке и могу приехать в Харбин. С этим письмом я пошла в английское консульство и попросила доставить его по адресу. Через несколько дней ко мне зашел незнакомый мне человек и передал мне закатанное в папиросу мелко-мелко исписанное письмо Александра Васильевича.
Он писал: «Передо мной лежит Ваше письмо, и я не знаю — действительность это или я сам до него додумался».
Тогда же пришло письмо от Жени — она звала меня к себе — у нее были личные осложнения, и она просила меня помочь ей: «Приезжайте немного и для меня». Я решила ехать. Мой муж спросил меня: «Ты вернешься?» — «Вернусь». Я так и думала, я только хотела видеть Александра Васильевича, больше ничего. Я ехала как во сне. Стояла весна, все сопки цвели черемухой и вишней — белые склоны, сияющие белые облака. О приезде я известила Александра Васильевича, но на вокзале меня встретила Женя, сказала, что Александр Васильевич в отъезде, и увезла меня к себе.
А Александр Васильевич встречал меня, и мы не узнали друг друга: я была в трауре, так как недавно умер мой отец70, а он был в защитного цвета форме. Такими мы никогда друг друга не видали. На другой день я отыскала вагон, где он жил, не застала и оставила записку с адресом. Он приехал ко мне. Чтобы встретиться, мы с двух сторон объехали весь земной шар, и мы нашли друг друга.
Он навещал меня в той семье, где я жила, потом попросил меня переехать в гостиницу. Днем он был занят, мог приходить только вечером, и всегда это была радость.
69 Хорват, Дмитрий Леонидович (1858—1937) — генерал-лейтенант (1912). Из херсонских дворян. Окончил Николаевское инж. училище. Начал службу в лейб-гвардии саперном батальоне (1878), с 1885 г. служил на железных дорогах. Начальник Южно-Уссурийской (1895), затем Закаспийской военной (1899) железных дорог. В 1902–1918 гг. — управляющий КВЖД. В декабре 1917 г. под его руководством прекращена продолжавшаяся две недели власть Харбинского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. К моменту приезда Колчака в Харбин в руках Хорвата сохранялась наибольшая реальная власть в полосе отчуждения КВЖД, хотя формально главной полит, организацией в городе был Дальневосточный комитет и в Харбине же находилось так наз. правительство П. Я. Дербера (остатки Врем. пр-ва автономной Сибири, образовавшегося в Томске в январе 1918). В июле 1918 г. Хорват образовал свое правительство (Деловой кабинет) и во Владивостоке объявил себя временным верховным российским правителем. В октябре 1918 г., подчинившись Врем. сиб. пр-ву П. В. Вологодского, назначен верх. уполномоченным на Дальнем Востоке. После 18 ноября 1918 г., признав верх. власть Колчака, стал его верх. уполномоченным в Маньчжурии. Падение власти Хорвата в Харбине относится к марту 1920 г. Остался в Китае. Был советником Мукденского (Шэньянского) правительства по делам КВЖД. С 1924 г. — пред. Дальневост. отд. Рус. общевоинского союза.
70 События 1917 г. помешали В. И. Сафонову выехать за границу в очередное концертное турне. Летом он уехал с семьей в Кисловодск, провел там бетховенский цикл концертов (с участием сына-скрипача). Не имея больших возможностей для исполнительской деятельности, сильно тосковал. Умер в Кисловодске 27 февраля 1918 г. от приступа грудной жабы. О жизни и смерти В. И. Сафонова в Кисловодске вспоминает В. Н. Коковцов во втором томе «Из моего прошлого» (Париж, 1933).
- 85 —
А время шло, мне пора было уезжать — я обещала вернуться. Как-то я сказала ему, что пора ехать, а мне не хочется уезжать.
— А вы не уезжайте.
Я приняла это за шутку — но это шуткой не было.
— Останьтесь со мной, я буду Вашим рабом, буду чистить Ваши ботинки. Вы увидите, какой это удобный институт.
Я только смеялась. Но он постоянно возвращался к этому. Наконец я сказала:
— Конечно, человека можно уговорить, но что из этого выйдет?
— Нет, уговаривать я Вас не буду — Вы сами должны решить.
А у него уже начались трения с Хорватом, которого он терпеть не мог: «…и по виду и по качеству старая швабра»71. А.В. приходил измученный, совсем перестал спать, нервничал, а я все не могла решиться порвать со своей прошлой жизнью. Мы сидели поодаль и разговаривали. Я протянула руку и коснулась его лица — и в то же мгновение он заснул. А я сидела, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить его. Рука у меня затекла, а я все смотрела на дорогое и измученное лицо спящего. И тут я поняла, что никогда не уеду от него, что, кроме этого человека, нет у меня ничего и мое место — с ним. Мы решили, что я уеду в Японию, а он приедет ко мне, а пока я напишу мужу, что к нему не вернусь, остаюсь с Александром Васильевичем. Единственное условие было у меня: мой сын должен быть со мной — в то время он жил в Кисловодске у моей матери.
Александр Васильевич ответил: «В таких случаях ребенок остается с матерью». И тут я поняла, что он тоже порвал со своей прошлой жизнью и ему это нелегко — он очень любил сына.
Но он меня любил три года, с первой встречи, и все это время мечтал, что когда-нибудь мы будем вместе. Вскоре я уехала в Японию — продала свое жемчужное ожерелье на дорогу. Потом приехал он. Тут пришло письмо от моего мужа. Классическое письмо: я не понимаю, что я делаю, он женат, он не может жить без меня, я потеряю себя — вернись и т. д. и т. д.
71 Попытки Колчака создать объединенные вооруж. силы на КВЖД натолкнулись на непоследовательность Хорвата, на сопротивление существовавших отрядов (в особенности Г.М. Семенова) и их взаимное соперничество и вражду. Главным же препятствием стали враждебные отношения с главой японской воен. миссии ген. Никашимой, который поддерживал Семенова и снабжал его оружием, а затем организовал работу по разложению частей Колчака; независимое поведение К. способствовало разрыву с японской миссией. По мнению Колчака, Хорват проводил по отношению к японцам недопустимую «политику необострения отношений». Чтобы попытаться нормализовать свои отношения с японцами, Колчак в начале июля 1018 г. отправился в Токио для переговоров с нач. япон. ген. штаба Ихарой.
- 86 —
Ну что ж, надо договориться — я поеду во Владивосток, все покончу там и вернусь. Я была молода и прямолинейна до ужаса. Александр Васильевич не возражал, он мне очень верил. Конечно, все это было очень глупо — какие объяснения могут быть, все ясно. Но иначе я не могла.
И вот я в вагоне. Мое место отгорожено от коридора занавеской, а за окном мутная-мутная ночь, силуэт Фудзиямы, и туман ползет по равнинам у ее подножия. Рвущая сердце боль расставания. И вдруг, повернувшись, я увидела на стене его лицо, бесконечно печальное, глаза опущены, и настолько реальное, что я протянула руку, чтобы его коснуться, и ясно ощутила его живую теплоту; потом оно стало таять, исчезло — на стене висело что-то. Всё. Осталось только чувство его присутствия, не оставляющее меня.
Вот я пишу — что же я пишу, в сущности? Это никакого отношения не имеет к истории тех грозных лет. Все, что происходило тогда, что затрагивало нашу жизнь, ломало ее в корне, и в чем Александр Васильевич принимал участие в силу обстоятельств и своей убежденности, не втягивало меня в активное участие в происходящем. Независимо от того, какое положение занимал Александр Васильевич, для меня он был человеком смелым, самоотверженным, правдивым до конца, любящим и любимым. За все время, что я знала его — пять лет, — я не слыхала от него ни одного слова неправды, он просто не мог ни в чем мне солгать. Все, что пытаются писать о нем — на основании документов, — ни в какой мере не отражает его как человека больших страстей, глубоких чувств и совершенно своеобразного склада ума.
В Харбине, когда я жила в гостинице, у меня постоянно бывали наши попутчики по вагону, Баумгартен и Герарди72, оба были немного влюблены в меня. Когда я собралась ехать в Японию, Александр Васильевич как-то заехал за мной, чтобы покататься на автомобиле. Едем мы, а он посмеивается. В чем дело? «Знаете, у меня сегодня был Баумгартен». — «Зачем?» — «Он спросил меня, буду ли я иметь что-нибудь против, если он поедет за Вами в Японию». — «Что же Вы сказали?» — «Я ответил, что это
72 Вероятно, имеется в виду сын генерал-лейтенанта фон Баумгартена Дмитрий Леонтьевич (р. 1895). Сведениями о Герарди мы не располагаем.
- 87 —
вполне зависит только от Анны Васильевны». — «А он?» — «Он сказал: потому что я не могу жить без Анны Васильевны». — «Я ответил: вполне Вас понимаю, я сам в таком же положении».
И все это на полном серьезе.
На другой день Баумгартен мне говорит: «Знаете, Анна Васильевна, Александр Васильевич очень отзывчивый человек».
В Японию за мной он не поехал, мы остались добрыми друзьями. Он все понял.
И вот я приехала во Владивосток, чтобы окончательно покончить со своей прошлой жизнью. За месяц, что я провела в таком тесном общении с Александром Васильевичем, я привыкла к полной откровенности и полному пониманию, а тут я точно на стену натолкнулась.
— Ты не понимаешь, что ты делаешь, ты теряешь себя, ты погибнешь и т. д. и т. п.
Мне было и жалко и больно — непереносимо.
Я уехала разбитой и измученной, поручив своим друзьям Крашенинниковым не оставлять моего мужа, пока он в таком состоянии. Я знала, что все, что можно, они сделают.
Был июнь (июль?) месяц, ясные дни, тихое море. Александр Васильевич встретил меня на вокзале в Токио, увез меня в «Империал-отель». Он очень волновался, жил он в другом отеле. Ушел — до утра.
Александр Васильевич приехал ко мне на другой день. «У меня к Вам просьба». — «?» — «Поедемте со мной в русскую церковь».
Церковь почти пуста, служба на японском языке, но напевы русские, привычные с детства, и мы стоим рядом молча. Не знаю, что он думал, но я припомнила великопостную молитву «Всем сердцем». Наверное, это лучшие слова для людей, связывающих свои жизни.
Когда мы возвращались, я сказала ему: «Я знаю, что за все надо платить — и за то, что мы вместе, — но пусть это будет бедность, болезнь, что угодно, только не утрата той полной нашей душевной близости, я на все согласна».
Что ж, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата.
- 88 —
Александр Васильевич увез меня в Никко, в горы73.
Это старый город храмов, куда идут толпы паломников со всей Японии, все в белом, с циновками-постелями за плечами. Тут я поняла, что значит — возьми одр свой и иди: одр — это просто циновка. Везде бамбуковые водопроводы на весу, всюду шелест струящейся воды. Александр Васильевич смеялся: «Мы удалились под сень струй».
Мы остановились в японской части гостиницы, в смежных комнатах. В отеле были и русские, но мы с ними не общались, этот месяц единственный. И кругом горы, покрытые лесом, гигантские криптомерии, уходящие в небо, горные речки, водопады, храмы красного лака, аллея Ста Будд по берегу реки. И мы вдвоем. Да, этот человек умел быть счастливым.
В самые последние дни его, когда мы гуляли в тюремном дворе, он посмотрел на меня, и на миг у него стали веселые глаза, и он сказал: «А что? Неплохо мы с Вами жили в Японии». И после паузы: «Есть о чем вспомнить». Боже мой…
Сегодня я рано вышла из дома. Утро было жаркое, сквозь белые облака просвечивало солнце. Ночью был дождь, влажно, люди шли с базара с охапками белых лилий в руках. Вот точно такое было утро, когда я приехала в Нагасаки по дороге в Токио. Я ехала одна и до поезда пошла бродить по городу. И все так же было: светло сквозь облака просвечивало солнце и навстречу шел продавец цветов с двумя корзинами на коромысле, полными таких же белых лилий. Незнакомая страна, неведомая жизнь, а все, что было, осталось за порогом, нет к нему возврата. И впереди только встреча, и сердце полно до краев.
Не могу отделаться от этого впечатления.
Киев, июль 69-го г
Как трудно писать то, о чем молчишь всю жизнь, — с кем я могу говорить об Александре Васильевиче? Все меньше людей, знавших его, для которых он был живым человеком, а не абстракцией, лишенной каких бы то ни
73 В Японии Колчак встретился с Ихарой и его помощником Г. Танакой. Ихвра уклонился от решения по вопросу о делах на КВЖД, предложив К. остаться на время в Японии и отдохнуть. Пребывание вместе с А. В. Тимиревой в курортном городе Никко Колчак использовал для лечения.
Никко (букв.: солнечное сияние) — город в центральной части о. Хонсю, примерно в 100 км к северу от Токио. Одно из священных и самых живописных мест в Японии, центр паломничества и туризма. Горные леса (япон. криптомерия, кедр, клен). Буддийский монастырь VIII в., синтоистский храм Тосёгу (гробница И. Токугавы, нач. XVII в.) и множество других памятников. В регионе — водопады, озера, действующие вулканы. Место традиционного осеннего любования листьями клена. Старинная японская поговорка гласит: не говори «кекко», не посетив Никко («кекко» значит «все хорошо, все в порядке»).
- 89 —
было человеческих чувств. Но в моем ужасном одиночестве нет уже таких людей, какие любили его, верили ему, испытывали обаяние его личности, и все, что я пишу, сухо, протокольно и ни в какой мере не отражает тот высокий душевный строй, свойственный ему. Он предъявлял к себе высокие требования и других не унижал снисходительностью к человеческим слабостям. Он не разменивался сам, и с ним нельзя было размениваться на мелочи — это ли не уважение к человеку?
И мне он был учителем жизни, и основные его положения: «ничто не дается даром, за все надо платить — и не уклоняться от уплаты» и «если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу — тогда не так страшно» — были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы.
И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тюремном дворе вдвоем на прогулке — нам давали каждый день это свидание, — и он говорит:
— Я думаю — за что я плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за Вас — я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не дается даром.
Это не имеет отношения к тому, что я пишу, а вот вспоминается. Было это в самом начале знакомства с А. В. Он редко бывал в Гельсингфорсе. Но у его жены я бывала часто — очень она мне нравилась. Был чудесный зимний день, я зашла к ней, застала ее в постели: «Поедемте кататься, день такой прекрасный». Она быстро оделась, взяли извозчичьи санки и поехали. Тихо, мороз, все деревья в инее в Брумстпарке. И вдруг — музыка. Мы жили еще по старому стилю и забыли, что сегодня католический сочельник. Костел ярко освещен, белые деревья как золотые, в зимних сумерках. Мы вошли, полно народу; орган уставлен маленькими красными тюльпанами и свечами, ясли с восковым младенцем. Музыка, и все вместе — такое очарование, как во сне. И мы вышли в ночь с незабываемым чувством живой поэзии.
А нет, не расскажешь.
И в другой раз мы с С. Ф. поехали кататься по заливу, день был как будто теплый, но все-таки я замерзла, и С. Ф. сняла с себя великолепную чернобурую лису, надела
- 90 —
мне на плечи и сказала: «Это портрет Александра Васильевича». Я говорю: «Я не знала, что он такой теплый и мягкий». Она посмотрела на меня с пренебрежением: «Многого Вы еще не знаете, прелестное молодое существо». И правда, ничего я не знала, никогда не думала, чем станет для меня этот человек. И до сих пор, когда ее давно уже нет в живых, мне все кажется, что, если бы довелось нам встретиться, мы не были бы врагами. Что бы то ни было, я рада тому, что на ее долю не выпало всего того, что пришлось пережить мне, так все-таки лучше.
Никогда я не говорила с А.В. о его отношении к семье, и он только раз сказал о том, что все написал С. Ф. Как-то раз я зашла к нему в кабинет и застала его читающим письмо — я знала ее почерк, мы переписывались, когда она уехала в Севастополь. Потом он мне сказал, что С. Ф. написала ему, что хочет только создать счастливое детство сыну. Она была благородная женщина.
После смерти А.В. она хотела получить его записи, попавшие в Пражский музей*, их ей не выдали. И хорошо сделали — в основном это были адресованные мне и неотправленные письма. Эти письма через 50 лет я получила (переписанные для меня из московского архива), ей не надо было их читать, это свидетельство его любви, несмотря на сдержанность тона и на то, что из них ясно отсутствие между нами близости.
Я вспоминаю ее с уважением и душевной болью, но ни в чем не упрекаю себя. Иначе поступить я не могла.
Из Омска74 я уехала на день раньше А.В. в вагоне, прицепленном к поезду с золотым запасом75, с тем чтобы потом переселиться в его вагон. Я уже была тяжело больна испанкой, которая косила людей в Сибири. Его поезд нагнал наш уже после столкновения поездов, когда было разбито несколько вагонов, были раненые и убитые. Он вошел мрачнее ночи, сейчас же перевел меня к себе,
- Имеется в виду Русский заграничный исторический архив в Праге (Пражский архив), куда поступили приобретенные им письма А.В. Колчака. — Прим. публ.
74 Омских воспоминаний Анна Васильевна не записала. Колчак прибыл в Омск 4 ноября 1918 г. и сразу же стал воен. и мор. министром пр-ва Директории. 18 ноября произошел переворот в пользу диктатуры, в результате которого Колчак занял пост Верховного правителя; одновременно ему был присвоен ранг полного адмирала. Максимум воен. успехов Колчака пришелся на март–апрель 1919 г.; к Пасхе «за освобождение Урала» ему был поднесен Георгий III степени. Верх. власть Колчака была признана А. И. Деникиным (30 мая 1919), Н. Н. Юденичем, Е.К. Миллером. В июне 1919 г. в союзе с Колчаком хотел выступить К. Г. Маннергейм, готовый в тот момент двинуть 100-тысячную армию на Петроград в обмен на признание независимости Финляндии, но это предложение не было принято ни Колчаком, ни его ближайшим окружением. По «Положению о врем. устройстве власти в России» от 18 ноября 1918 г. власть принадлежала Верховному правителю и Совету министров, однако реально наибольшим влиянием обладали Совет Верховного правителя и отдельные сменявшие друг друга лица, пользовавшиеся особым доверием Колчака. Не пытаясь охарактеризовать режим Колчака и обстоятельства его временных успехов и окончательного падения (атаманщина, коррупция, соперничество армий, некомпетентность адмирала в военно-сухопутных делах, стратегические и тактические просчеты, двойственная роль союзников, борьба с.-р. против режима Колчака, фактический отказ Колчака от решения аграрного вопроса, партизанское движение и пр.), отметим только, что сам адмирал безусловно был захвачен идеей служения России, как он его понимал, искренне пытался встать над партиями, издавал приказы войскам о запрещении реквизиций у населения и телес ных наказаний в армии, о прибавке жалованья солдатам, многократно ездил на фронт с подарками для солдат, привез однажды 270 раненых в своем поезде, пытался отдельными мерами бороться с коррупцией, призывал имущие слои к жертвам на алтарь победы и т. д.
Ход событий, однако, в решающей мере зависел не от него. В октябре 1919 г. фронт стал быстро приближаться к Омску, 10 ноября Совет министров покинул город, направившись в Иркутск, а 12 ноября выехал Колчак, стремившийся находиться недалеко от своей сражающейся армии.
75 Золотой запас России, сконцентрированный в 1915–1918 гг. в Казанском банке, был захвачен 7 августа 1918 г. при взятии Казани войсками Комуча и ЧСК; достался правительству Директории, а затем Колчаку. Перевезен в Омск. По неточным оценкам, примерно на одну треть использован Омским правительством. 12 ноября 1919 г. отправлен из Омска особым поездом за литером «Д». Кроме золота в монете и слитках, в «золотом эшелоне» были платина, серебро, ценности Монетного двора, Главной палаты мер и весов. Горного ин-та. В начале января поезд с гос. ценностями передан под охрану ЧСА. Доставлен в Иркутск вслед за Колчаком и через некоторое время передан сов. властям. Однако за полтора года гражданской войны и военной интервенции в Сибири золотой запас заметно поубавился. В 1991–1994 гг. изучению судьбы «колчаковского» и «семеновского» золота был посвящен ряд публикаций в прессе.
- 91 —
и началось это ужасное отступление, безнадежное с самого начала: заторы, чехи отбирают на станциях паровозы76, составы замерзают, мы еле передвигаемся. Куда? Что впереди — неизвестно. Да еще в пути конфликт с генералом Пепеляевым, который вот-вот перейдет в бой77. Положение было такое, что А.В. решил перейти в бронированный паровоз и, если надо, бой принять. Мы с ним прощались, как в последний раз. И он сказал мне: «Я не знаю, что будет через час. Но Вы были для меня самым близким человеком и другом и самой желанной женщиной на свете».
Не помню, как все это разрешилось на этот раз. И опять мы ехали в неизвестность сквозь бесконечную, безвыходную Сибирь в лютые морозы.
Вот мы в поезде, идущем из Омска в неизвестность. Я вхожу в купе, Александр Васильевич сидит у стола и что-то пишет. За окном лютый мороз и солнце.
Он поднимает голову:
— Я пишу протест против бесчинств чехов — они отбирают паровозы у эшелонов с ранеными, с эвакуированными семьями, люди замерзают в них. Возможно, что в результате мы все погибнем, но я не могу иначе.
Я отвечаю:
— Поступайте так, как Вы считаете нужным.
День за днем ползет наш эшелон по бесконечному сибирскому пути — отступление.
Мы стоим в коридоре у замерзшего окна с зав. печатью в Омске Клафтоном78. Вдруг Клафтон спрашивает меня: «Анна Васильевна, скажите мне, как по-Вашему, просто по Вашему женскому чутью, — чем все это кончится?»
— «Чем? Конечно, катастрофой».
О том же спрашивает и Пепеляев79: «Как Вы думаете?» — «Что же думать — конечно, союзное командование нас предаст. Дело проиграно, и им очень удобно — если не с кем будет считаться». — «Да, пожалуй. Вы правы»80.
И так целый месяц в предвидении и предчувствии неизбежной гибели. В одном только я ошиблась — не думала пережить его.
76 Отношения Колчака с ЧСК с самого начала были напряженными. За переворотом 18 ноября последовал уход ЧСК с антибольшевистского фронта, связанный с демократ, и социалист, настроениями в ЧСК, а также с прекращением воен. действий на западноевроп. фронтах и провозглашением независимости Чехословакии. Союзное командование поручило ЧСК охрану ж.-д. магистрали (с ответвлениями) от Новониколаевска до Иркутска и городов Омска и Томска; забрав значительный подвижной состав, ЧСК по-хозяйски утвердился на жел. дороге. Недовольство Колчака подогревалось выступлениями чехословаков за демократическое переустройство общества, их связями с сибирскими с.-р.; к тому же ЧСК разъедался изнутри политической борьбой, а его действия против партизан не привели к умиротворению полосы вдоль железной дороги. Размещавшийся в Омске чехосл. полк покинул город 5 ноября 1919 г. 13 ноября (накануне падения Омска) чехосл. руководители составили, а 15 ноября (когда город пал) выпустили меморандум о том, что пребывание ЧСК на железной дороге бесцельно и противоречит требованиям справедливости и гуманности («под защитой чехо-словацких штыков русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир… мы сами не видим иного выхода из этого положения, как лишь в немедленном возвращении домой». — Последние дни колчаковщины. М.—Л., 1926, док. № 43, с. 113).
18 ноября по ЧСК был отдан приказ приостановить отправку рус. эшелонов и ни в коем случае не пропускать их за ст. Тайга, пока не проедут все части ЧСК. С 20 ноября по приказу колчаковского главкома К. В. Сахарова началась эвакуация из района Новониколаевск — Ачинск, в первую очередь семей бойцов, раненых и больных, эвакуируемых в Приамурье. Остановка рус. эшелонов вызвала в следующие дни ряд протестов Колчака, обращенных к ген. М. Жанену (главнокомандующему войсками союзных с Россией государств, действовавшими на востоке России и в Зап. Сибири) и Я. Сыровому (командующему ЧСК). 24 ноября Колчак телеграфировал: «Продление такого положения приведет к полному прекращению движения русских эшелонов и гибели многих из них. В таком случае я буду считать себя вправе принять крайние меры и не остановлюсь перед ними» (там же, с. 116). 25 ноября последовал резкий ответ Колчака на чехословацкий меморандум от 13 ноября, что вызвало возражения нового премьер-министра В. Н. Пепеляева. «Я возрождаю Россию, — ответил ему Колчак, — и, в противном случае, не остановлюсь ни перед чем, чтобы силой усмирить чехов, наших военнопленных» (там же, с. 140). Конфликт был с трудом улажен к 30 ноября, но действия ЧСК, стремившегося любой ценой поскорее пробиться на восток, остались прежними («наши интересы выше всех остальных»).
77 Пепеляев, Анатолий Николаевич (1891—1938) — генерал-лейтенант (1919), брат В. Н. Пепеляева (см. примеч. 79). Во время Первой мировой войны прошел путь от поручика (начальника полковой команды конных разведчиков) до полковника. Четкой партийной ориентации не придерживался. В нач. 1918 г. вместе со своей воинской частью — 42-м Сиб. стрелковым полком — приехал в Сибирь. 31 мая 1918 г. возглавил в Томске восстание, поддержанное ЧСК. Сформировал Средне-Сиб. корпус и командовал им, в конце декабря 1918 г. руководил взятием Перми. Неоднократно обращался к Колчаку с просьбой созвать в Сибири Земский собор. В. Н. Пепеляев стремился сделать брата преемником Колчака (в период поражений последнего). 9 декабря, находясь на ст. Тайга, братья Пепеляевы по телеграфу предъявили Колчаку ультимативные требования о созыве Земского собора, представив ему проект соответствующего указа. Одновременно они, обвинив главкома К. В. Сахарова в сдаче Омска, объявили его задержанным; требование отставки Сахарова и расследования обстоятельств сдачи Омска было предъявлено Колчаку также генералом М. К. Дитерихсом при их встрече (поначалу только в этом вопросе Колчак и уступил, назначив новым главкомом В.О. Каппеля).
После падения Колчака ген. П. отступил на Амур, затем отстранился от военной деятельности. Уехал в Харбин. Ездил извозчиком, ловил для заработка рыбу в Сунгари. Весной 1920 г. был близок к переходу на сторону революционных войск для борьбы с японцами и Г. Семеновым; едва не согласился на предложение командовать Нар.-револ. армией ДВР. Сочувствовал Сов. России в ее войне с Польшей. В 1921 г. отказался сотрудничать с М. Семеновым, бр. Меркуловыми, М. К. Дитерихсом. Был в это время близок к с.-р. Приняв очередное восстание якутов за широкое движение против сов. власти, в сентябре 1922 г. высадился на Охотском побережье с Сиб. добровольч. дружиной и вторгся в Якутию. Был разбит, 17 июня 1923 г. взят в плен; приговорен к расстрелу, замененному 10-летним заключением. Видимо, потом был снова репрессирован и погиб.
78 Клафтон, Александр Константинович — деятель партии кадетов. Родом из Самары. В 1918 г. выехал из Москвы в Уфу через фронт с полномочиями Междунар. комиссии Красного Креста. При организации в Омске 9 ноября 1918 г. Вост. комитета партии нар. свободы (Вост. отдел ЦК) вошел в него как тов. председателя; с декабря 1918 г. — председатель. Возглавлял вместе с Н. В. Устряловым Рус. бюро печати в Омске. Пред. акц. Рос. об-ва печатного дела там же. По оценке Устрялова — «благородный, умный либерал предреволюционной эпохи, старый земец, лишенный, однако, узко-интеллигентских шор и предрассудков» (У с т-р я л о в Н. П»д знаком революции. Харбин, 1925, с. 219). Осужден Чрезвычайным революционным трибуналом и 23 июня 1920 г. расстрелян вместе с колчаковскими министрами А.А. Червен-Водали, Л. И. Шумиловским и А. М. Ларионовым.
79 Пепеляев, Виктор Николаевич (1884—1920) — политический деятель. Окончил юридический ф-т Томского университета, преподавал в Бийской мужской гимназии. Чл. IV Гос. Думы от Томской губ. Чл. ЦК партии кадетов в 1917 г. Вскоре после Февраля — комиссар Временного правительства в Кронштадте; арестован там матросами. Летом 1917 г. вступил добровольцем в армию, служил в 8-м Сиб. мортирном дивизионе. Командирован в Сибирь «Нац. центром». Председатель Восточного отдела ЦК партии нар. свободы (кадетов) с момента его организации до формального выхода из партии (декабрь 1918). Один из главных деятелей переворота 18 ноября, после чего — директор департамента милиции и гос. охраны. С конца февраля 1919 г. — тов. министра внутренних дел, весной стал министром внутренних дел и вошел в состав Совета министров Верховного правителя. 22 ноября назначен премьер-министром. В Иркутске переформировал Совет министров. Пытался примирить пр-во с сиб. земством и гор. думами; рассчитывал, в случае упорства Колчака, опереться на войска своего брата — А. Н. Пепеляева; «правительства общественного доверия», однако, создать не сумел. В начале декабря выехал навстречу Колчаку с намерением добиться отречения того от верх. власти в пользу А. И. Деникина, созыва Земского собора и т. д. После конфликта с Колчаком возвращался вместе с ним в Иркутск и, начиная с Нижнеудинска, разделил его судьбу.
80 С 21 декабря движение Колчака на восток происходило в обстановке восстания, начавшегося на магистрали под руководством Ревкома (с.-р., меньшевики, земские деятели) и поддержанного большевиками. Почти сразу по прибытии поезда Колчака в Нижнеудинск в городе 27 декабря захватило власть Полит, бюро (местный орган Ревкома), и М. Жанен в тот же день (из Иркутска) приказал не пропускать далее поезда Колчака, Пепеляева и «золотой эшелон» «в видах их безопасности». Началось двухнедельное «нижнеудинское сидение» на станции, объявленной нейтральной. Верховный правитель предоставил своему конвою (60 офицеров и ок. 500 солдат) полную свободу действий, и почти все солдаты покинули его; Колчак поседел при этом в одну ночь. 1 января командование ЧСК взяло Колчака и золотой запас «под свою защиту».
Адмирал имел возможность бежать под видом солдата, но отказался; обсуждался план движения на Монголию, но был отброшен Колчаком. Он согласился на перевод в отдельный вагон, куда перешли и офицеры конвоя, и этот вагон, как и вагон Пепеляева, был прицеплен к эшелону 1-го батальона 6-го чешского полка и поставлен под защиту амер., англ., франц., япон. и чехосл. флагов (вывешен был и рус. Андреевский).
Со 2 января в поезде Жанена происходили переговоры оперативной (чрезвычайной) тройки последнего колчаковского пр-ва (А.А. Червен-Водали, А. М. Ларионов, ген. М.В. Ханжин) с представителями Политцентра (ПЦ) — новой власти, возникшей в ходе восстания и попытавшейся овладеть положением на магистрали от Красноярска до Иркутска. Упорство тройки было сломлено вмешательством Жанена и, главное, восстанием в Иркутске, в результате чего 5 января власть была формально передана ПЦ (фактически с первого дня ПЦ делил власть с Иркут. губко-мом РКП (б) и Центр, штабом раб.-крест, дружин, силами которых и был в основном произведен переворот в городе вечером 4 января). Одновременно и сам Колчак отказался от власти, назначив своим преемником А. И. Деникина, а главнокомандующим вооруженными силами на Дальнем Востоке — атамана Г. М. Семенова. По указанию Жанена, желавшего обеспечить беспрепятственный выезд союзнич. отрядов и поезда с иностр. миссиями, чехословаки согласились выдать Колчака Политцентру. В качестве выкупа за свободный путь на восток (особенно остерегались взрыва туннелей на Кругобайкальской железной дороге) они — несколько позже — согласились оставить в Иркутске «золотой эшелон».
Под охраной чехов, превратившейся в конвой. Колчак выехал из Нижнеудинска 10 января и, при задержках на ст. Зима, под Черемховом и на Иннокентьевской, где с каждым разом увеличивалось число вооруженных дружинников, сопровождавших поезд, утром 15 января прибыл в Иркутск. Союзники, за исключением чехословаков, покинули город накануне. Арест Колчака был поручен А. Г. Нестерову, со слов которого этот эпизод (там упоминается и А.В. Тимирева) описан Л. И. Шинкаревым в его кн.: Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. (2-е изд., М., 1978, с. 154—155). Обширные выдержки из доклада генерал-майора М. И. Занкевича «Обстоятельства, сопровождавшие выдачу адмирала Колчака революционному правительству в Иркутске» приведены в кн.:
Кладт А.П., Кондратьев В. А. Быль о «золотом эшелоне» (2-е изд., М., 1966, с. 60—65 и 88—90; документ ранее напечатан в кн.: Белое Дело, т. II: Летопись Белой Борьбы. Материалы, собранные и разработанные бароном П. Н. Врангелем, герцогом Г. Н. Лейхтенбергским и светлейшим князем А. П. Ливеном. Под ред. А.А. фон Лампе). Берлин, 1927.
Местным властям Колчака передал чеш. офицер Боровичка. Когда Колчаку сообщили о передаче, он воскликнул: «Как, неужели союзники меня предали? Где же гарантии генерала Жанена?» А.В. успокаивала Колчака, держа его руки в своих, и выразила желание быть арестованной вместе с ним.
Ряд подробностей об аресте и заключении адмирала Колчака и Анны Васильевны приведен впервые в статье Л. И. Шинкарева «»…Если я еще жива». Неизвестные страницы иркутского заточения Александра Колчака и Анны Тимиревой» («Известия», 18 октября 1991 г., с. 9).
- 92 —
Долгие годы не могла я видеть морозные узоры на стекле без душевного содрогания, они сразу переносили меня к этим ужасным дням.
И можно ли до конца изжить все, что было?..
Июнь 1969 г
Приблизительно с месяц тому назад мне позвонил по телефону М.И. Тихомиров81 — писатель, который пробовал писать роман об А. В. Колчаке и, узнав, что я еще жива, приехал ко мне для разговора.
Роман он написал скверный, сборный — и, собственно, о генерале Лукаче. Эпизодически и об Александре Васильевиче, меня наградил княжескими титулами и отвел крайне сомнительную роль, ничего общего со мной не имеющую, и имел дерзость мне его прислать. Перелистав, я читать его не стала. Но тут он сообщил мне, что в архиве сохранились не отправленные мне письма А.В., частично напечатанные в журнале «Вопросы истории» № 8 за 1968 г.82, что писатель Алдан-Семенов83 имел их в руках и может мне передать в перепечатке из журнала.
Я просила его передать Алдан-Семенову, чтобы он доставил мне их. Письма 1917–1918 гг. Тот привез их мне.
И вот больше чем через 50 лет я держу их в руках. Они на машинке, обезличенные, читанные и перечитанные чужими, — единственная документация его отношения ко мне. Единственное, что сохранилось из всех его писем, которые он мне писал с тех пор, как уехал в Севастополь, — а А.В. в эти два года писал мне часто. Даже в этом виде я слышу в них знакомые мне интонации. Это очень трудно — столько лет, столько горя, все войны и бури прошли надо мной, и вдруг опять почувствовать себя молодой, так безоглядно любимой и любящей. На все готовой. Будто на всю мою теперешнюю жизнь я смотрю в бинокль с обратной стороны и вижу свою печальную старость. Какая была жизнь, какие чувства!..
81 Тихомиров, Михаил Иванович (р. 1907) — журналист и писатель, печатающийся с 1928 г.; работал в различных редакциях в «Правде», «Вечерней Москве», «Московском литераторе», «Нашем современнике», Госполитиздате; получил высшее дипломатическое образование (1938) и участвовал в работе советских правительственных делегаций в США, Франции, Швейцарии, Канаде. Колчак является действующим лицом его первого (и единственного) обширного произведения «Генерал Лукач». Этот исторический роман написан в 1956–1962 гг. и выдержал пять изданий общим тиражом 680 тыс. экз. Тихомиров, как и другие беседовавшие с Анной Васильевной писатели (Алдан-Семенов, А.И. Елкин), обещал изобразить Колчака правдиво — «не так, как другие раньше»; это никак не отразилось на переизданиях «Генерала Лукача». Сама Анна Васильевна изображена в романе в ряду реальных исторических лиц под именем Веры Митеревой; сибирячка, княжна, женщина далеко не строгого поведения, которой после ареста Колчака «ничто не угрожает».
82 речь идет о письмах Колчака к Анне Васильевне, которые рассматривались исследователями как своего рода дневник Колчака за февраль 1917 — март 1918 г. Они попали в СССР в составе Пражского архива в 1945 г., но долго оставались неизвестными. Впервые судьбе этих писем и их содержанию были посвящены пять страниц в статье ст. научн. сотр. ЦГАОР СССР Б. Ф. Федотова «О малоизвестных источниках периода гражданской войны* и иностранной военной интервенции в СССР» («Вопросы истории», 1968, № 8, с. 24-28).
А.И. Алдан-Семенов при работе над романом «Красные и белые» (с 1969 — три издания общим тиражом 380 тыс. экз.), вероятно, знакомился с несовершенными машинописными расшифровками этих трудно читаемых текстов. В роман включены отобранные им не вполне точные отрывки из восьми писем.
Подробнее об истории этих писем и их предшествующих публикациях см. с. 139—142 настоящего издания.
83 Алдан-Семенов — псевд. писателя Семенова Андрея Игнатьевича (1908—1985). Начинал как поэт (печатался с 1926, первая кн. стихов — 1934). Арестован по полит, обвинению (ок. 1937), 1938–1953 гг. провел в лагерях на Севере (добыча золота, ловля рыбы, лесоповал). После реабилитации — автор прозаич. книг о тружениках Сибири и Севера; писал о «восстановлении ленинских норм сов. демократии».
- 93 —
Что из того, что полвека прошло, — никогда я не смогу примириться с тем, что произошло потом. О Господи, и это пережить, и сердце на куски не разорвалось*.
И ему и мне трудно было — и черной тучей стояло это ужасное время, иначе он его не называл. Но это была настоящая жизнь, ничем не заменимая, ничем не замененная. Разве я не понимаю, что, даже если бы мы вырвались из Сибири, он не пережил бы всего этого: не такой это был человек, чтобы писать мемуары где-то в эмиграции в то время, как люди, шедшие за ним, гибли за это и поэтому.
Последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда армия Каппеля84, тоже погибшего в походе, подступала к Иркутску85: «Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось — только бы нам не расставаться».
И я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили86.
И все. И луна в окне, и черная решетка на полу от луны в эту февральскую лютую ночь. И мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, наверное, спали в Гефсиманском саду ученики. А наутро — тюремщики, прятавшие глаза, когда переводили меня в общую камеру. Я отозвала коменданта87 и спросила его:
— Скажите, он расстрелян?
И он не посмел сказать мне «нет»:
— Его увезли, даю Вам честное слово.
Не знаю, зачем он это сделал, зачем не сразу было суждено узнать мне правду. Я была ко всему готова, это только лишняя жестокость, комендант ничего не понимал.
Полвека не могу принять,
Ничем нельзя помочь,
И все уходить ты опять
В ту роковую ночь…
Но если я еще жива,
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе.
30 января 1970 г.
- Неточная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Весь день она лежала в забытьи…» (1864). Правильно: «О Господи!.. и это пережить…// И сердце на клочки не разорвалось…» — Прим. публ.
84 Каппель, Владимир Оскарович (1883—1920) — генерал-лейтенант (1919). Окончил Николаевское кавалерийское училище (1903) и Академию Генштаба (1913), участвовал в Первой мировой войне. Летом 1918 г. — командир Первой добровольческой дружины Нар. армии (армия Комуча), командовал частями Нар. армии, взявшими Симбирск и Казань. Наиболее надежными по дисциплине и храбрости в его Волжском корпусе стали Ижевская и Боткинская дивизии (из восставших против большевиков в августе 1918 г. рабочих этих городов). Единственный военачальник, которого Директория, в порядке исключения, произвела в генералы (ноябрь 1918). Остался с той частью Нар. армии, которая, подчинившись Колчаку, приняла название Зап. армии. В 1919 г. корпус Каппеля действовал под Белебеем (май), Челябинском (июль— авг.), на Тоболе (август). При отходе на Омск командовал Моск. группой войск (т.е. той, в задачу которой ранее входило наступление на Москву), а с ноября 1919 г. — 3-й армией (бывшая Западная). Среди генералов выделялся безусловной преданностью Колчаку. После конфликта с М. К. Дитерихсом и В. Н. Пепеляевым Колчак по прямому поводу предлагал Каппелю, когда тот достигнет Иркутска, принять от него полномочия Верховного правителя (Каппель отказался, сославшись на свою неподготовленность). 11 декабря назначен главнокомандующим. Его армия совершила так наз. Ледяной Сибирский поход: преследуемая 5-й Красной Армией и охваченная тифом, прошла в стужу по глубоким снегам вдоль Сиб. магистрали (шли по старому Сибирскому тракту: на железную дорогу не пускала занимавший ее ЧСК) и пробилась за Байкал, потеряв большую часть своего состава. В походе Каппель простудился, отморозил обе ноги и 25 января умер от воспаления легких. За Байкалом части Каппеля приняли наименование Дальневост. Российской армии, но чаще называли себя Каппелевской армией. Отойдя в конце 1920 г. (под условием разоружения) в Китай, а затем проникнув в Приморье и частично возродившись там как боевая сила, каппелевпы до конца (1922) сохранили свое название.
85 Сведения о движении каппелевцев стали поступать в Иркутск примерно с 15 января. В этих условиях ПЦ 20–21 января вынужден был передать власть Иркутскому ВРК, сформированному 19 января и руководимому большевиками (чехословаки в ответ на заявление ВРК о необходимости устранить ПЦ согласились на это при условии сохранения в силе заключенного ими в ПЦ соглашения о свободном выходе ЧСА на восток). 30 января у ст. Зима каппелевцы разбили сов. войска и в следующие дни вышли на подступы к Иркутску.
86 Расстрел Колчака был заранее предрешен. Еще в январе директива об этом была дана Лениным:
«Шифром. Склянскому; Пошлите Смирнову.
(РВС 5) шифровку: Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступили так и так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске.
Ленин.
Подпись тоже шифром.
- Беретесь ли сделать архинадежно?»
(Этот текст был опубликован М. Вселенским в кн. «Номенклатура», вышедшей в Лондоне в 1985 г. Здесь цитируется по газете ленингр. писателей «Литератор», 20 июля 1990 г., с. 7.)
Официальная советская версия упоминала липы. санкцию на расстрел, полученную по телефону от председателя РВС 5-й армии И. Н. Смирнова. Утверждалось, будто бы вначале предполагалось отправить Колчака после следствия в Москву, но события заставили местные власти поступить иначе. Формально постановление о немедленном расстреле Колчака и Пепеляева вынесено в Иркутске (Военно-революционным комитетом по представлению С. Г. Чудновского, председателя Иркутской Губчека).
Расстрел описан, с расхождением в некоторых деталях, его непосредственными исполнителями — С. Г. Чудновским (Конец Колчака. — В кн.: Годы огневые, годы боевые. Сб. воспоминаний. Иркутск, 1961, с. 207— 210) и И. Н. Бурсаком (Конец белого адмирала. — В кн.: Разгром Колчака. Воспоминания. М., 1969, с. 266—280); Л. И. Шинкарев в указанной выше книге пользовался более полным текстом воспоминаний Бурсака. Об обстоятельствах расстрела Колчака рассказали тогдашний глава Иркутского ВРК А. А. Ширямов (Иркутское восстание и расстрел Колчака. — «Сиб. огни», 1924, № 4, с. 122—139). К воспоминаниям Ширямова, Чудновского, Бурсака, по всей видимости, восходит легенда о А. В. Тимиревой как «княжне».
После объявления о предстоящем расстреле Колчак обратился с просьбой о свидании с Анной Васильевной, в ответ на что «все расхохотались» (Чудновский). Перед расстрелом Александр Васильевич оставался спокойным. Ему хотели завязать глаза — он отказался. Расстрелян, как и Пепеляев, на берегу реки Ушаковки в 5 ч. утра 7 февраля 1920 г. двумя залпами дружинников из тюремной охраны. Трупы опущены в прорубь, вырубленную дружинниками на Ангаре. При расстреле Колчака присутствовал представитель губревкома М. Н. Ербанов (будущий председатель СНК Бурят-Монгольской АССР и первый секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП (б), расстрелянный в 1938).
87 Комендантом тюрьмы в это время был В. И. Ишаев. Возможно, однако, что Анна Васильевна имеет в виду прежнего коменданта тюрьмы, принявшего арестованных от А. Г. Нестерова 15 января, — И. Н. Бурсака, который стал при переходе власти к ВРК комендантом города, но неоднократно (по 2—3 раза в сутки) посещал и проверял тюрьму.
ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА ПЕШКОВА
Вот как я впервые встретилась с Екатериной Павловной I Пешковой88.
1921 год. Иркутск, тюрьма, женский одиночный корпус*.
Резко стукнуло окошко, и я увидела даму в шляпе и вуалетке, среднего возраста, чуть подкрашенные губы, решительное лицо. Она внимательно посмотрела на нас — мы сидели вдвоем — и спросила, не нуждаемся ли мы в хлебе.
Нет, в хлебе мы не нуждались**. И все, окно снова захлопнулось.
Разве я могла представить себе, кем будет в моей судьбе эта незнакомая дама? Что долгие годы в самые тяжелые дни она придет на помощь — и столько раз выручит из беды. И что не будет для меня более дорогого человека.
А потом она говорила моей сестре, что запомнила меня в одиночке, в тюремном полосатом платье за каким-то шитьем.
В это время она объезжала сибирские тюрьмы как уполномоченный Польского Красного Креста по делу репатриации польских военнопленных89 — только что кончилась война с Польптой
— Но, — говорила потом Екатерина Павловна улыбаясь, — я и всех политических заключенных обходила.
Время было суровое. Незадолго до ее посещения приезжала комиссия по пересмотру дел политических заключенных под председательством Павлуновского90. Гражданская война кончилась. Многие заключенные получили сроки — максимальный был тогда 5 лет. И вдруг начались расстрелы — по 40, 80, 120 человек за раз.
- Отрывки из другого варианта воспоминаний здесь и далее даются в постраничных примечаниях:
Сорок четыре года — с 1921 г., когда впервые я встретилась с Екатериной Павловной, — вся жизнь моя была связана с нею. Волей-неволей придется говорить о себе.
** Время было страшное. Второй раз я сидела в одиночном корпусе Иркутской тюрьмы. Обе мы занимались каким-то рукоделием, надзирательницы давали нам перевязывать на платки старые фуфайки, платили едой, да и передачи мы получали от друзей.
88 Пешкова (урожд. Волжина), Екатерина Павловна (1876—1965) — общественный деятель. Родилась на Украине, гимназию окончила в Самаре (1895). Жена А. М. Горького с 1896 г.; после 1904 г., когда они расстались, сохранила с ним деловые и дружеские отношения.
Общественная работа Е.П. началась в 1900-е годы в Ниж. Новгороде (Нар. дом. Красный Крест) и Крыму (помощь революционным матросам). В 1907–1914 гг., вместе с сыном Максимом, Е.П. — за границей, в основном в Париже. Посещала в Сорбонне курсы французского языка для русских и лекции по социальным наукам. Была членом партии с.-р.; в конце 1908 г., после разоблачения Е. Ф. Азефа, выбрана во Временную делегацию ПСР, заменявшую ЦК ПСР до выборов нового ЦК. В 1908–1912 гг. работала в эмигрантской кассе (Париж) по организации материальной помощи рус. политэмигрантам. Вместе с другими членами кассы организовала в Париже детскую библиотеку. Участвовала в попытках создать за границей Музей истории борьбы за полит, освобождение России (1910—1913). Работала в организованном В. Н. Фигнер Кружке помощи каторге и ссылке («Парижский кружок»), продолжила эту работу по возвращении из-за границы.
После начала Первой мировой войны вернулась из Италии в Россию через Константинополь — Одессу. В об-ве «Помощь жертвам войны» заведовала (осень 1914—1918) Комиссией помощи детям. В начале 1915 г. вместе с адвокатом И. Н. Сахаровым на средства Земского и Городского союзов организовала отряд по сбору детей, оставшихся за линией фронта. В годы войны работала также в нелегальном кружке «Красный Крест», собирала для Горького материалы о жизни евреев в России, ответы по анкете «Дети и война» и т. д.
После Февраля — в Моск. бюро Об-ва помощи освобожденным политическим, в августе 1917 г. при посещении Крыма знакомилась в Ливадии с работой санаториев для бывших политзаключенных. В 1917 г. — чл. ЦК ПСР.
После Октября — в об-ве «Культура и свобода», в Худож. просветит. союзе рабочих организаций, Политическом Красном Кресте (до 1922), с 1922 г. — возглавила организацию Помощь политическим заключенным, которая просуществовала до 1937 г. С осени 1920 до 1937 г. — делегат Польского Красного Креста по опеке лиц польской национальности в Сов. России. В связи с этой деятельностью посетила Иркутск, Новонико-лаевск и др. города Сибири (сентябрь–октябрь 1921), Архангельск (весна 1922) и т. д., по два раза в год ездила в Польшу. По завершении репатриации в Польшу награждена (1925) знаком Польского Красного Креста. Один из организаторов Музея А. М. Горького в Москве (1937).
Во время войны 1941–1945 гг. — в организациях, помогавших эвакуированным и пострадавшим от войны детям (начала эту работу в Ташкенте в конце 1941). В последние годы жизни — консультант архива А. М. Горького при ИМЛИ. Среди подготовленного ею к печати — два тома писем Горького к ней («Архив А. М. Горького», т. 5 и 9. М., 1955 и 1966).
89 Репатриация в Польшу проводилась в соответствии с сов.-польским соглашением, заключенным в Риге 24 февраля 1921 г. (Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. III. М., 1965, док. № 267, с. 502—514). В Москве (а для проведения встречной репатриации — ив Варшаве) создавались смешанные комиссии из делегаций от обеих сторон. Члены репатриационных комиссий пользовались дипломатической неприкосновенностью. В их функции входило посещение лагерей, тюрем, госпиталей и прочих мест нахождения лиц, имеющих право на репатриацию. До образования в апреле 1921 г. репатриационных комиссий и некоторое время после их создания репатриацией занимались Российское и Польское общества Красного Креста. За апрель 1921—апрель 1924 г. из сов. республик в Польшу репатриировалось ок. 1,1 млн. человек (почти Уз из них составляли украинцы и белорусы). По польским источникам, на территории СССР осталось ок. 1,5 млн. поляков, не воспользовавшихся правом на репатриацию. Контингенты возвращавшихся на родину граждан с самого начала должны были включать определенную долю военнопленных, по исчерпании иных категорий они состояли только из военнопленных.
Осн. часть пленных поляков была захвачена на фронтах сов.-польской войны (воен. действия с 25 апреля по 18 октября 1920). Меньшую часть составили бывшие польские легионеры из соединений, созданных летом 1918 г. в Сибири и входивших позже в состав войск Польской республики. Поляки, подобно чехословакам и румынам, охраняли один из секторов Сиб. магистрали (Татарская — Новониколаевск, с ответвлением на Славгород, с 1 октября 1919 г. ЧСА передала им участок Новониколаевск — Тайга). При отступлении польская дивизия, вместе с серб. полком, составляла арьергард союзнич. войск. Перед ст. Тайга отряд поляков в 4 тыс. штыков был почти начисто изрублен 27-й красной дивизией (в живых осталось 50 пленных); в р-не Анжерских копей два полка легионеров в 8 тыс. штыков потерпели новое поражение и затем без сопротивления сдались в плен. Военнопленные поляки содержались как в европейской России (Тульский лагерь), так и в азиатской части страны (напр., в 1920 г. работали на лесозаготовках в р-не Колывани). Деятельность Е. П. Пешковой по репатриации польских военнопленных, возможно, отмечена в польской прессе и мемуарах, но нам эти источники неизвестны.
90 Павлуновский, Иван Петрович (1888—1940) — большей, деятель, чл. РСДРП (б) с 1905 г. В ВЧК с момента ее организации, вместе с ней переехал в Москву, принимал руководящее участие в ликвидации «Союза защиты родины и свободы» (май 1918) и др. крупных операциях ВЧК. С августа 1918 г. нач. Особого отд. 5-й армии Вост. фронта; возглавлял одно время Особый отд. Вост. фронта. Пред. ЧК в Казани и Уфе после взятия этих городов (1918). С апреля 1919 г. зам., с августа первый зам. нач. Особого отд. ВЧК (1919—1920). В ответ на просьбу Сибревкома (январь 1920) направить в Сибирь Я. Х. Петерса для организации ЧК выдвинут Дзержинским (с согласия Ленина) полномоч. представителем ВЧК (потом ОГПУ) по Сибири (1920-1926) и Закавказью (1926-1928). Пред. Сиб. чрезвычайного Ревтрибунала на Омском процессе над видными деятелями колчаковского режима (20—30 мая 1920). С 1921 г. — чл. Сиббюро ЦК РКП (б). В нач. 1921 г., когда повстанческое движение против большевиков охватило всю Зап. Сибирь, вошел вместе с пред. Сибревкома И. Н. Смирновым и пом. главкома по Сибири В. И. Шориным в Чрезвычайную тройку по Сибири, под руководством которой восстание было подавлено к июню 1921 г. В августе 1921 г. был занят операцией по захвату Р. Ф. Унгерна фон Штернберга. С нач. 1922 г. чекистскую работу совмещал с должностью уполномоченного НКПС по Сибири, в 1922 г. возглавил так наз. Сибпятерку — чрезвычайную комиссию по вывозу хлеба из Сибири. Из характеристики на Павлуновского Сиббюро ЦК РКП (б): «В политической обстановке ориентируется легко и быстро. Марксистская подготовка достаточная. Выдержан и устойчив. В отношении парторганов дисциплинирован. Энергичен и настойчив. С точки зрения коммунистической этики безупречен». Работая затем в Закавказье, сблизился с Г. К. Орджоникидзе и в последующие годы замещал его в НК РКИ и Наркомтяжпроме (первый зам. наркома по оборонной индустрии). Кандидат в члены ЦК ВКП (б) (1934). В 1937 г. арестован и погиб в заключении.
- 95 —
По субботам и понедельникам мы не спали. Смотрели, прижавшись к решеткам, как пачками выводят людей — «в подвал». Как-то в один из таких дней меня предупредили, что я тоже в списках, — оказалось: ошибка.
Люди, примирившиеся с приговором, поняли, что терять им нечего: среди бела дня человек десять бросились на вышку с часовым, перемахнули через забор и бросились бежать. Всех, конечно, перестреляли. Ушел только один. Долго под нашими окнами лежал убитый.
И вот осенью меня вызвали в подвал с вещами. Все мы знали, что это значит. Так мне и сказала соседка по камере: «Вы не маленькая, не берите вещей, они пригодятся Вашим друзьям».
Так я и ушла с конвоиром через весь город с маленьким чемоданчиком, и тот нес конвоир: была я совсем больна — отказали легкие. В подвале навстречу мне бросилась женщина, знакомая по тюрьме: «Не беспокойтесь. Вас только отправляют в Москву». В тот же вечер повезли в Новониколаевск, затем в Москву*.
Вернувшись из Сибири, Екатерина Павловна при свидании с Дзержинским рассказала ему и обо мне. Он ей сказал: «Да, кажется, мы много лишнего делаем». В результате меня вызвали в Москву.
Через некоторое время меня выпустили. Я тогда еще не знала, что этим я обязана Екатерине Павловне, много позже она об этом рассказала мне сама**.92
Мне приходится говорить о себе, так как иначе непонятно, как мы, люди такой разной судьбы, сошлись так близко. Раз придя мне на помощь, она уже и потом не оставляла без внимания все перипетии моей судьбы — а их было много.
В 1925 г. меня выслали на три года из Москвы. По окончании срока она сама послала мне телеграмму об
- В тот же вечер посадили меня и еще одного арестованного с конвоирами в общий вагон, и поехали. А через несколько недель из Новониколаевской тюрьмы вместе с тремя членами эсеровского ЦК (91Члены ЦК ПСР этапировались в Москву для суда (8 июня-7 августа 1922) над ними и другими деятелями партии.) повезли в Москву.
** Выпустили меня уже в конце апреля. В тюрьме мне рассказали о Политическом Красном Кресте, куда я и пришла. Виделась я там с Винавером (93Винавер, Михаил Львович (1880-1942) — адвокат, ближайший помощник Е. П. Пешковой по работе в ПКК и в Польском КК. Арестован в 1937 г., приговорен к 10 годам. Освобожден из лагеря в связи с зачислением в польскую армию В. Андерса, умер во время ее передислокации в Иран. По другим сведениям, погиб в заключении.), так как не знала, что руку к моему освобождению приложил не он, а Екатерина Павловна.
92 Политический Красный Крест (Московский политический Красный Крест) работал в Москве с сер. февраля 1918 до сентября 1922 г. С лета 1922 г. функционировал под другим названием — Помощь политическим заключенным. С этого периода в связи с неудовольствием властей активной попыткой ПКК помочь подсудимым на процессе ПСР, лишен прежней возможности оказывать содействие в деле смягчения участи политзаключенным, обследовать тюрьмы и влиять на улучшение условий содержания в местах заключения. В 1938 г. закрыт по непосредственному приказу Н. И. Ежова. В ПКК входили Е. П. Пешкова (пред.), М.Л. Вина-вер (зам. пред.), Н. К. Муравьев, В. Н. Малянтович. В работе ПКК участвовал А. Ю. Фейт (ум. 1926). Почетным пред. ПКК была В. Н. Фигнер.
Приведем текст одного из объявлений Моск. ПКК («Жизнь», 1918, 29 мая, № 28, с. 4):
«Возродившийся Политический Красный Крест, преследующий задачи оказания всех видов помощи политическим заключенным, испытывает большой недостаток в материальных средствах.
Денег теперь нужно много, т. к. тюрьмы переполнены и рост продовольственных затруднений вызывает острую необходимость в большом притоке денежных средств.
Красный Крест надеется встретить поддержку во всех культурных слоях русского общества и просит нас напечатать, что он с признательностью принимает всякого рода пожертвования, которые надлежит адресовать: Москва, М. Никитская, 25.
Денежные пожертвования можно также адресовать в редакции московских газет для Политического Красного Креста».
После смерти Дзержинского (1926) ПКК функционировал с большим трудом, ходатайства его удовлетворялись органами ОГПУ-НКВД все реже, к нач. 30-х годов иссякли источники средств ПКК, а затем его деятельность постепенно свелась к наведению справок об арестованных и даче советов их родным. Главные средства ПКК составлялись из фондов различных политич. группировок (в основном социалистич. партий) в расходовались пропорционально размерам партийных поступлений. Воспоминания А. В. Книпер свидетельствуют о том, что помощь оказывалась не только социалистам, но и другим лицам, арестованным по политическим мотивам.
Первый значительный массив материалов о ПКК опубликован в исторических сборниках «Память», составлявшихся в СССР и публиковавшихся в 70—80-х на Западе (см. выпуски № 1, 3, 4).
- 96 —
этом*, и, вернувшись, я пошла в Политический Красный Крест поблагодарить ее за внимание, и тут-то мы с ней и познакомились.
Семь лет после этого я прожила в Москве и изредка заходила на Кузнецкий, 24. Так как я была одним из самых старых клиентов этого учреждения, то ко мне привыкли и пускали к Екатерине Павловне без очереди, с внутреннего хода. Народу там всегда было много. Екатерина Павловна много слов не тратила, слишком была занята, и я не задерживалась. Каждый раз, как я от нее выходила в приемную, ожидающие спрашивали: «Что, сегодня не очень строгая?» Когда я потом рассказала Екатерине Павловне, как ее побаивались посетители, она очень огорчилась: «Правда? А я так всегда стеснялась! Мне казалось, что все на мне такое некрасивое».
Оказалось, что, такая решительная на вид, она была очень застенчивым человеком, и ей стоило больших усилий разговаривать с людьми, которых она жалела всем сердцем: ведь к ней приходили со всеми своими несчастьями.
Такое наше знакомство — полуофициальное, виделись мы только по месту ее работы: Кузнецкий, 24, — продолжалось до 1935 г., когда после убийства Кирова начались повальные аресты. Время было благоприятное для сведения личных счетов, доносы были в ходу, обоснованные или нет — значения не имело.
Я получила пять лет лагеря и была отправлена в Забайкалье, на постройку Байкало-Амурской магистрали. По дороге из окна арестантского вагона**, я выбросила письмо, адресованное Екатерине Павловне в Политический Красный Крест. Я увидела, как его подобрала какая-то женщина, и как к ней подошел солдат. Ну, пропало!.. Но везде есть люди: письмо дошло по назначению. По дороге кое-кого из нашего этапа, меня в том числе, сняли в санитарном пункте: ехали мы в товарном вагоне месяц, у многих начиналась цинга. Там меня и оставили для работы в лазарете. Я связалась со своими и получила
- Когда кончился мой срок, я получила в Тарусе телеграмму от Екатерины Павловны, что я могу вернуться в Москву. Это было в 1928 г.
** Повезли нас на БАМ в теплушке с уголовными женщинами.
- 97 —
от них телеграмму, что пять лет лагеря заменены мне тремя годами высылки: «минус два» города. Это Екатерина Павловна имела разговор с Ягодой94, и он нашел, что, пожалуй, перехватили*.
Через три месяца я вернулась и, конечно, сразу же отправилась к Екатерине Павловне. Она меня встретила очень приветливо и под конец разговора сказала: «Я ко всем подопечным хорошо отношусь, но у меня есть персональные». Толстой говорил, что люди любят тех, кому делают добро, и ненавидят тех, кому причиняют зло, — думаю, что в отношении ко мне у Екатерины Павловны это имело место.
В Москве жить я не могла — начались мои скитания по маленьким городам, не слишком далеким от Москвы. Но всегда, во время побывок в Москве, где жила моя семья95, я заходила на Кузнецкий.
Однажды Екатерина Павловна сказала мне: «Вас вызывают в НКВД, а оттуда приходите ко мне обедать и все расскажете». У меня было такое впечатление, будто я получила приглашение на Олимп. А она встретила меня в передней и сразу сказала: «Мы очень любим редьку, но она ужасно пахнет». На меня напал смех — вот так Олимп! — и я сразу перестала ее бояться. Вот она какая простая и милая; как хорошо, что можно ее просто любить! Это не значит, что изменилось чувство глубокого уважения к ней и восхищения, — просто стало мне с ней легко.
Вот так и началось у меня близкое знакомство с Екатериной Павловной.
Всегда, встречаясь с ней, я не переставала изумляться: как, прожив такую долгую, сложную жизнь, сталкиваясь со столькими людьми, всякими, — как она сумела до глубокой старости сохранить абсолютную чистоту души и воображения, такую веру в человека и сердце, полное любви. И полное отсутствие сентиментальности и ханжества. Она
- Сняли нас после месячного этапа в санитарном городке Б., где я и работала три месяца санитаркой, сестрой и под конец заведовала двумя корпусами больницы. Тут я и получила телеграмму от мужа, что пять лет лагеря заменены мне тремя годами «минус два». Правда, на поверку вышло, что не «минус два», а «минус пятнадцать» городов, но из лагеря я освободилась.
94 Ягода, Генрих Георгиевич (1891-1938) — болыцев. деятель. До революции служил статистиком, работал в больничной кассе Путилов, завода, в 1915 г. призван в армию. В револ. деятельности с 1904 г., был в ссылке (1911-1913). Чл. РСДРП (б) с 1907 г. (Ниж. Новгород, затем Москва и Петербург). В 1917–1919 гг. на воен. работе, в 1919–1922 гг. чл. Коллегии Наркомввепгторга. С 1920 г. упр. делами ВЧК, чл. коллегии ВЧК. С 1924 г. — зампред ОГПУ, в 1934–1936 гг. — наркомвнудел. Расстрелян по делу «антисоветского правотроцкистского блока».
95 В 1922 г., по освобождении, Анна Васильевна жила в Москве сначала с братом Ильей. В том же году взяла к себе сына, оставленного в 1918 г. в Кисловодске, и вышла замуж за В. К. Книпера. В 1936 или 1937 г. в ее квартире поселилась сестра Елена.
- 98 —
была очень терпима к людям — к женщинам, — и, когда я ее по ходу разговора спросила: «Да неужели в молодости Вы никем не увлекались, за Вами никто не ухаживал?» — она ответила почти сердито: «Мне некогда было, я всё уроки давала. Раз товарищ меня провожал и, прощаясь, поцеловал мне руку — уж я ее мыла, мыла». Я совершенно ей поверила, но очень смеялась.
Я не знала человека, который бы так ценил малейшее к себе внимание и совершенно забывал, сколько он сделал для других. Как-то (много позже) она рассказывала, что была на каком-то заседании в Музее Горького, и к ней подходили люди и напоминали ей о том, как она им помогла, — и: «Знаете, оказалось, что все они очень хорошо ко мне относятся» — даже с некоторым удивлением.
Я ей говорю: «С чего бы это так, Екатерина Павловна?» И тут мы обе стали смеяться.
Кто не пережил страшного этого времени, тот не поймет, чем был для многих и многих ее труд. Что значило для людей, от которых шарахались друзья и знакомые, если в семье у них был арестованный, прийти к ней, услышать ее голос, узнать хотя бы о том, где находятся их близкие, что их ожидает, — а это она узнавала.
Недаром мой муж96 говорил, что после меня и моего сына он больше всех на свете любит Екатерину Павловну.
В конце концов и этих возможностей у нее не стало. Условия работы в Политическом Красном Кресте сделались невыносимыми. И все-таки потом она говорила: «Может быть, все-таки надо было все это перетерпеть и не бросать работу»*.
А в 1938 г., когда кончился срок моей высылки, в тот же день меня арестовали вновь, арестован был мой сын и так и не вернулся из заключения — реабилитирован посмертно. И муж мой умер во время моего заключения на восемь лет.
И когда в 1946 г. я вернулась, Екатерина Павловна была мне самым дорогим человеком. Она очень постарела, хотя по-прежнему была деятельна и очень занята. Я боя-
- И это вплоть до 1938 г., когда положение стало невыносимым, и ничего уже сделать было нельзя. Много лет спустя она как-то сказала мне: «Может быть, надо было все это вынести — и все-таки не закрывать Крест».
96 Книпер, Всеволод Константинович (1888—1942) — инженер-строитель. Работал на железных дорогах и на строительстве гидросооружений. Умер в Москве. - 99 —
лась ее тревожить и утомлять, когда приходила к ней. Если видела, что она устала, поднималась: «Ну, я пойду, Вам надо отдохнуть». А она делала вид, что не слышит, и продолжала разговаривать. И тут я поняла, что, по существу, она очень одинока, несмотря на внучек97 и правнуков, которых она любила нежно, но которые жили своей и совсем ей чужой жизнью.
Жила я в это время в Рыбинске, работая в театре98, и, накопив сверхурочные часы и дни, приезжала в Москву. В один из этих приездов в 1959 г. она проводила меня до передней и сказала: «Анна Васильевна, подавайте на реабилитацию». А я уже подавала и получила отказ, я только на нее поглядела. А она: «Я понимаю, что все это Вам надоело, но сейчас подходящий момент, и, если Вы его упустите, так и останетесь до конца жизни»99.
Я поняла ее слова как приказ, а ее приказа я ослушаться не могла, не раз я ей была обязана просто жизнью. В 1960 г. я получила реабилитацию и с тех пор жила в Москве, и мы виделись чаще.
Для меня было радостью, что мне уже не о чем было ее просить, — и так я была перед ней в неоплатном долгу. А она об этом точно и не помнила. Она вообще не помнила, что она делала для людей, ей это было так же естественно, как дышать.
Сколько людей я перевидала, но никогда не встречала такого полного забвения своих поступков, а вот малейшее внимание к себе она помнила.
Приезжая в Москву из Рыбинска, я звонила к ней, она назначала день и час — она всегда была занята, и людей у нее бывало много. Она интересовалась моей жизнью, работой, всем. Но как-то я рассказывала ей не слишком веселые истории, и она сказала: «У меня голова от этого заболела». Она старела на глазах… Какой же одинокой она была в последние годы жизни! Сверстники ее умирали один за другим, родные не утешали. А она все касающееся их принимала к сердцу, волновалась, огорчалась, худела на глазах, точно таяла.
И, приходя к ней, я рассказывала ей уже только что-нибудь веселое и забавное. Она любила цветы и всегда радовалась, если ей принесешь — всегда немного, — иначе
97 Внучки Е. П. Пешковой — дети М. А. Пешкова (1897—1934): Пешковы Марфа Максимовна (р. 1925) и Дарья Максимовна (р. 1927).
98 Бутафором в Гор. театре Рыбинска (Шербакова) Анна Васильевна работала до и после енисейской ссылки. А первые шаги ее как театрального художника относятся ко времени пребывания в Карлаге. Именно там Анна Васильевна обнаружила в себе и вкус к этому виду творчества, и личные свои возможности.
99 Заявления о реабилитации Анна Васильевна писала, по крайней мере с 1954 г. Она посылала их Г. М. Маленкову, Н. С. Хрущеву, К.Е. Ворошилову (а сестра Елена — XXI съезду КПСС и ген. прокурору Руденко). Прилагались отзывы и характеристики Анны Васильевны (акад. В. В. Виноградов, проф. А.Н. Александров). В 1957 и 1958 гг. ходатайства Анны Васильевны о снятии судимости были официально отклонены. Попытка 1959 г. привела к полной реабилитации в марте 1960 г. В это время, не заработав пенсии к 67 годам, Анна Васильевна вынуждена была работать. Лишь по ходатайству группы деятелей муз. искусства (Д.Д. Шостаковича, А. В. Свешникова, Е. Ф. Гнесиной, В. Н. Шацкой, К. А. Эрдели, Н. А. Обуховой, Д. Ф. Ойстраха, И.С. Козловского) ей за заслуги отца перед рус. муз. культурой была назначена с сентября 1960 г. пенсия республиканского значения — 450 (с 1961 г. — 45) руб. в месяц.
- 100 —
она сердилась: зачем деньги тратить? И ее старая домработница Лина ловила меня в передней и говорила: «Что Вас давно не было? Она будто при Вас повеселела». «Она» — так всегда называла она Екатерину Павловну. Потом Екатерина Павловна нет-нет да позвонит сама: «Вы сегодня не заняты? У Вас нет работы? Тогда кончайте свои дела, когда кончите — приходите». Не знаю человека, который так уважал бы дела другого — что бы это ни было.
Как-то раз она говорит: «Что это Вас давно не видно?» Я отвечаю: «Вы же знаете, Екатерина Павловна, что Вы у меня № 1, но ведь есть еще № 2 и № 3 — что уж я поделаю?» Она смеется и говорит: «Вот у меня столько так называемых друзей, а если что надо — обращаюсь к Вам».
Она часто просила что-нибудь купить для нее — какие-нибудь пустяки.
«Екатерина Павловна, я бы Вас на ручках носила, если бы могла, а я Вам 200 грамм сыра покупаю».
Последнее время ей уже было очень трудно ходить, а одной совсем нельзя. Тогда она вызывала меня по телефону, чтобы я ее провожала.
Как-то раз позвонила: «Вы свободны? Тогда заходите к Дарье, это от Вас близко». А как раз у меня был приступ ишиаса, и я еле ходила. Что делать — пошла.
Оказалось, что Екатерине Павловне хотелось поехать домой на троллейбусе*, а одной ехать ей трудно. Меня разбирал смех: она ходит с трудом, я еле хожу — а она была ужасно довольна, что видит из окна Москву. Это было вроде эскапады, все ее забавляло. Мы заходили в какие-то магазины, получали в сберкассе ее пенсию, покупали совершенно ненужные вещи — еле добрели до дому, а она была довольна: несмотря ни на что, в ней обнаруживалась подчас прелестная веселость, способность радоваться пустякам.
- «А то из машины ничего не видно».
ИЗ РАССКАЗОВ ЕКАТЕРИНЫ ПАВЛОВНЫ
Когда началась революция, то у нас (Политический Красный Крест) был пропуск во все тюрьмы, и мы свободно там бывали.
Мы — это Муравьев100, Винавер и я.
И вдруг пропуск отобрали.
Надо было идти к Дзержинскому. Я сказала, что не пойду в Чрезвычайку. Но Муравьев заболел, один идти Винавер не соглашался — пришлось пойти.
Дзержинский встретил нас вопросом: «Почему вы помогаете нашим врагам?» Я говорю: «Мы хотим знать, кому мы помогаем, а у нас отобрали пропуск».
Дзержинский: «А мы вам пропуск не дадим».
Е.П.: «А мы уйдем в подполье».
Дзержинский: «А мы вас арестуем».
С тем и ушли. (Тут глаза Екатерины Павловны заблестели: на другой день дали пропуск.)101
Когда кончилась война с Польшей, мне предложили взять на себя работу по репатриации военнопленных поляков — руководство Польским Красным Крестом.
Дзержинский вызвал меня к себе. Я ему говорю: «Я очень боюсь брать это дело на себя. Говорят, поляки такие коварные, им нельзя доверять».
Тут Дзержинский, который был чистокровный поляк, стал страшно смеяться: «Вот и хорошо: вы работайте, а очень-то им не доверяйте».
В 20-е годы мы с Винавером возили передачу в Бутырки. В столовой на Красной Пресне мы брали порции второго блюда и вдвоем везли их на ручной тележке.
Это довольно далеко и страшно утомительно. Везем, везем, остановимся — и отдыхаем, прислонившись спиной друг к другу.
А собственно, зачем мы это делали сами? Сколько людей сделали бы это за нас — и с удовольствием.
Последний раз у нее на квартире я была в день ее отъезда в санаторий Барвиха в начале декабря 1964 г. Вид у нее был просто страшный, очень нервна, возбуждена. Я
100 Муравьев, Николай Константинович (1870—1936) — адвокат. После Февраля — пред. Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющего и прочих высших должностных лиц как гражданского, так и военного и морского ведомств (ЧСК). Защитник на политических процессах как до революции, так и после Октября. Участвовал в работе Всесоюзного об-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Член юридической комиссии Политического Красного Креста.
101 Об отношениях Е. П. Пешковой с Дзержинским см. указанные выше (примеч. 92) публикации о ПКК.
- 102 —
спросила ее, не надо ли ей помочь уложить вещи, — нет, все готово, за ней приехали. Потом она сказала: «Я позвоню Вам из Барвихи» — и не позвонила. Через несколько дней у нее случился инфаркт, и ее с постели увезли в Кремлевскую больницу. Она хотела непременно вернуться из санатория к Новому году — как она любила праздники!
Я позвонила ей перед Новым годом — и тут узнала о ее болезни. Меня точно черным платком накрыло.
87 лет, инфаркт, чего можно ждать? И все-таки — какой могучий организм…
Вот я начала писать о Екатерине Павловне, и меня потянуло в Новодевичий на ее могилу. Я бывала там вместе с нею — на могиле ее сына и матери102: ей было уже трудно ездить одной… а внукам некогда, все дела, дела…
Она купила цветов в горшках, попросила меня взять лейку — а самой ей стало нехорошо, я просто не знала, как ее довести до участка. Две лиственницы сплетаются верхушками над могилами. У памятника ее сына лежали три белые астры — ей было приятно, что кто-то все-таки вспомнил. Хотелось самой высадить цветы, а было трудно.
Теперь прибавилась и ее могила. Кругом чисто — видно, уборка оплачивается, — и видно, что никто там не бывает, очень все казенно. Только памятник ее сына приобрел новый смысл: со своей стелы Максим смотрит на могилу матери. «Эта рана никогда не заживает, — как-то сказала мне Екатерина Павловна. — Дарья назвала своего сына Максимом, она думала сделать мне приятное, а мне это ножом по сердцу».
Мимо проходила экскурсия молодых девушек. Экскурсовод указал на могилу «сына Горького» — у него не нашлось ни одного слова, чтобы сказать о Екатерине Павловне, которая всю жизнь отдавала людям в несчастье. «К страданиям чужим ты горести полна, и скорбь ничья тебя не проходила мимо — к себе самой лишь ты неумолима…» — разве не о ней эти строки А. К. Толстого?
Очень мне было горько.
Вспомнила я ее похороны. Говорились речи о той работе, которую она вела по литературному наследию Горького, — замалчивая, еле касаясь Политического Красного Креста, точно это запретная тема, неловко ее касаться. И
102 Мать Е. П. Пешковой — Волжина, Мария Александровна (1848— 1939).
- 103 —
только один голос произнес: «Спасибо, Екатерина Павловна, от многих тысяч заключенных, которым Вы утирали слезы». Я обернулась — старая женщина посмотрела на меня: «Я не могла этого не сказать»103.
На гражданской панихиде в Музее Горького я стала у гроба. Екатерина Павловна лежала в цветах, и лицо ее было молодое, такой прекрасный лоб, тонкие брови — никогда ее больше не увижу. Заплакала я — кто-то сказал: «Вам нехорошо? Дать капель?» Как будто странно, что можно заплакать, прощаясь с дорогим человеком.
Каких мы людей теряем,
Какие уходят люди…
И горше всего — что знаем:
Таких уж больше не будет.
Была вам в жизни удача,
Что мы повстречались с ними, —
И нет их… И только плачем,
Повторяя светлое имя.
1965
Направления развития

Красная луна
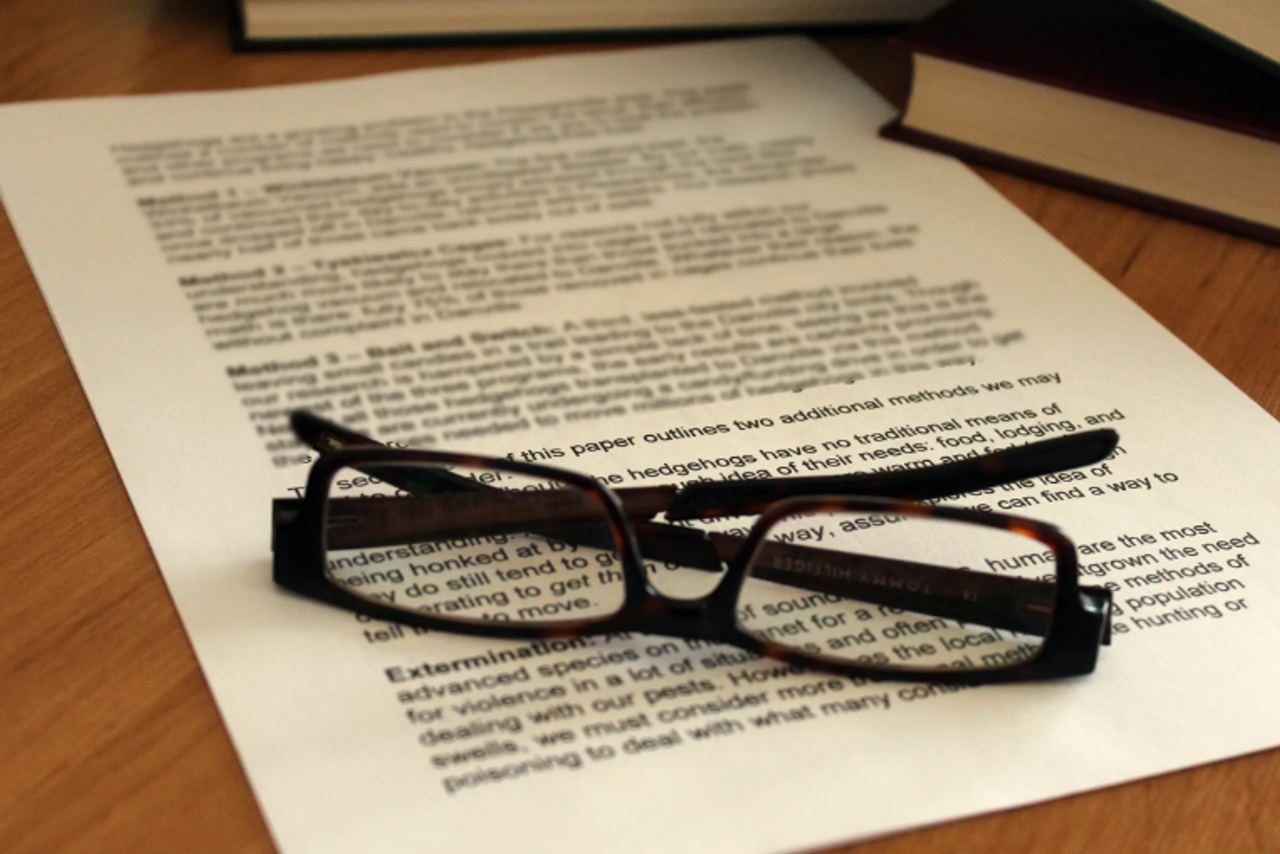
Литературные предпочтения
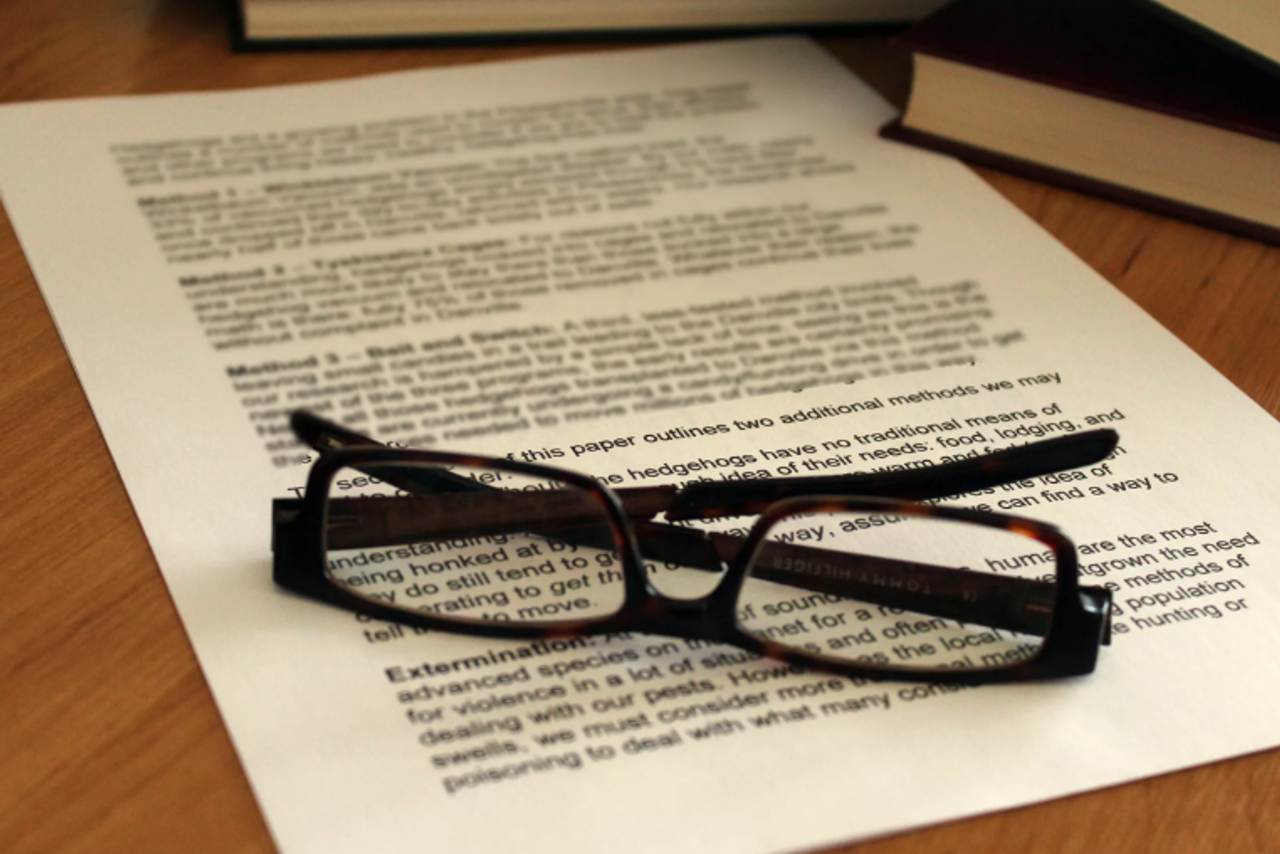
Цитаты из книг и фильмов

Кое-что о животных

Герои книг и фильмов








